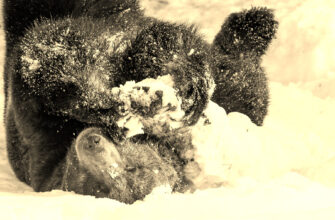Три тройки выехали из славного города Готтентотска. В обыкновенных ямских кибитках сидели все особы, по преимуществу солидные, группами по три и по четыре человека.
Часть первая
То были председатель Готтентотской губернской земской управы Александр Панкратьевич Карминский, известный между своими знакомыми больше под именем Генерала; фигура весьма внушительных размеров, с добродушными и проницательными глазами, крутым и энергическим постановом головы на широких плечах и молодцеватою казачьею осанкою.
Андрей Африканович Выпущинский, носивший кличку Полковника и имевший вид почти всегда меланхолический, но не наводящий тоски и уныния, а скорее вызывающий мысли и поступки более или менее игривого характера; держал он себя солидно, хотя и способен был на подвиги легкомыслия; на левой щеке его ближе к носу была бородавка, обладавшая весьма любопытными гигроскопическими свойствами, о чем, однако, речь впереди.
Член губернской управы Никандр Аркадьевич Кулакович — совершенно рыжий человек с самодовольным жирным лицом, бритыми щеками и громадною огненно-красною бородою; в эту феноменальную бороду обладатель ее то и дело запускал свои руки, точно желая удостовериться, все ли обстоит в ней благополучно и так ли, как и прежде, то есть пять минут тому назад, глубоки и пушисты ее рыжие недра.
Статский советник не у дел Илья Дорофеич Пророков — мужчина лет 40 со специально педагогическим и как бы обиженным выражением лица. Член земского статистического бюро Вася Пальчик — юноша лет 23, безбородый, малый себе на уме, иногда шалун и чуть не дитя, иногда чрезмерно серьезен и чуть не старик.
Другой член того же бюро — некто Печеев, черненький маленький человечек, один из многочисленных литературных «Колумбов» наших, открывавший, впрочем, Америку очень недавно и потому еще гордый сознанием пользы, принесенной им человечеству.
Мировой судья Петр Никитич Длинный — особа тощая и чрезмерно рослая с белесою бородою, умными голубыми глазами с поволокой и улыбкой Мефистофеля. Секретарь управы — Еремей Еремеевич Купидинский, субъект смуглый и даже черный, с глазами томными и насмешливыми, особенно ничем не замечателен; немножко либерал и немножко циник.
Затем, наконец, в кибитках сидели еще три особы, серые, одноцветные, с робкими и благоговейными лицами, молчаливые и готовые к услугам всякого рода; то были бедные родственники генерала, с весьма сомнительными, однако, доказательствами на это родство.
Часть вторая
Светало.
По обеим сторонам шоссе, по которому неслись кибитки с вышепоименованными особами, лежали заливные луга. Справа упирались они в невысокую гряду холмов, на которых красовался славный город Готтентотск, весь потонувший в пышной зелени своих садов и только золотыми иглами своих колоколен да кое-где выдвинувшимися из зелени веселыми белыми домиками кокетливо глядящийся в тихие стоячие воды болот, образуемых еще в половодье рекою Десною и никогда окончательно не высыхающих.
Слева луга ограничивались серо-голубою лентою Десны. По ту сторону Десны лежало песчаное плоскогорье, там и сям поросшее кустами ежевики и заячьей капустой. Прозрачная дымка тумана слегка волновалась над лугами. Дул заревой ветер. Холодом и сыростью веяло от реки.
Белая блестящая полоса на востоке становилась все шире и шире… и вдруг забагрянилась и охватила собою полнеба, облив веселым розовым светом и старые задумчивые ивы, длинными рядами, как какие-то уродливые гигантские странницы-старухи, тянувшиеся по обеим сторонам шоссе, и далекие тополя, и болота, и славный город Готтентотск, и всю даль, насколько глаз хватал…
Тройки все мчались и мчались.
Красивые легавые псы иногда выскакивали из кибиток и громко лаяли на коней, лаяли без злобы и даже едва ли умышленно, единственно ради искусства и от избытка собачьей энергии. Господа, сидевшие в кибитках, немедленно возвращали «эмигрантов» на прежние места, и псы визжали что-то в свое оправдание, дрожа всем своим нежным, горячим телом и бесцеремонно толкая их в губы и щеки своими холодными, слюнявыми мордами.
Но вот на горизонте показалась темная черточка. То был лес.
Часть третья
Ежегодно 30 августа праздновал свои именины Александр Панкратьевич так, как подобает праздновать оное торжество всякому именитому охотнику. Забывалась на время земская злоба дня, погружалась в ту же пучину забвения бесконечная и ожесточенная распря с губернским предводителем дворянства, почему-то видевшим в земстве установление, для дворян явно обидное и оскорбительное, кликался клич, и составлялась маленькая, но хорошая компания из лиц, более или менее близких Александру Панкратьевичу, его товарищей и сотрудников по земскому делу.
Затем чистились ружья, запаковывалось в ящики гомерическое количество разных питий с белыми головками и без оных, назначалось «поле», где должно было совершиться пиршество, запрягались тройки… и двигалась в путь-дорогу к этому «полю» вся честная компания, чтобы, постреляв в нем для «блезиру» (для удовольствия. — Прим. редакции) коростелей и перепелок, вступить в рукопашную с врагом земли русской — всевластным хмелем и сложить свои буйные головы во славу и честь Александра Панкратьевича на лоне природы, вдали от земских недругов вообще и губернского предводителя дворянства в особенности.
Лес, видневшийся на горизонте, на этот раз был таким «полем». Состоял он из молодых, высоких и тонких берез и незаметно сливался с громадною площадью кочковатого пространства, густо поросшего низеньким корявым дубняком. Там и сям на этом пространстве лежали никогда не высыхающие болотца, обрамленные аиром и камышами.
Над некоторыми из них, более светлыми и глубокими, с жалобным криком реяли чайки. Широкою полосою врезывалось сюда ровное гладкое поле, и в его ржище (поле, с которого убрана рожь. — Прим. редакции), желтом и уныло однообразном, искали убежища и корма жирные перепелки. Тут же ближе к межам в лесной опушке скрипели легионы коростелей…
Часть четвертая
Солнце уже взошло, когда наши охотники въехали в лес, радушно и гостеприимно протянувший им свои зеленые руки и обдавший их своим свежим смолистым дыханием.
— Вот в этом месте будет расчудесно, — проговорил молчавший всю дорогу Выпущинский, показывая на поляну, открывшуюся в лесу, и сияя при мысли о том, как именно будет «расчудесно».
— Полковник, господа, говорит совершенную правду, — заметил Кулакович, — это место, эта поляна, как оказывается, прежде служила для тех же пиршественных целей. Оглядываясь внимательно, замечаю, что она еще доселе хранит на лице своем следы кашеварения…
И Кулакович простер свою десницу по направлению к нескольким горстям пеплу и углей, усмотренным им на поляне.
— Здесь, так здесь! — сказал Александр Панкратьевич и приказал остановить лошадей.
Бедные родственники первыми вслед за собаками выпрыгнули из кибиток. Один из них с живостью, не свойственною его летам, подбежал к «следам кашеварения», взял в руки уголек, внимательно посмотрел на него, подул, бросил… и сказал тоном убежденного человека:
— А ведь совершенно верно Никандр Аркадьевич изволили заметить, что следы… Действительно, здесь кто-то кашу варил… Интересно только знать: кто именно? — задал он себе вопрос.
Два других родственника суетливо бросились к Александру Панкратьевичу, чтобы подержать его ружье и ягдташ, пока он выберется из кибитки. Александр Панкратьевич благодушно посмотрел на них, но от услуг отказался. Тогда они стали щелкать пальцами и ласкать собак, желая ни в каком случае не оставаться праздными.
— Иеремия! — обратился к Купидинскому Длинный. — Где же твое ружье?
Кунидинский распахнул полы своего длинного пальто и показал коротенькую, аршина в полтора (немногим больше метра. — Прим. редакции), двустволку.
— Вот оно!
— Да это не ружье!
— В мире все условно. Очень может быть, что это не ружье.
— Кроме шуток. Ты серьезно думаешь охотиться с этой игрушкой?
— Серьезно.
— Далеко же оно бьет?
— На 120 шагов.
— Ха-ха-ха! Хочешь пари держать, что ты из этого карлика на расстоянии даже 75 шагов не попадешь ни единой дробинкой в цель, столь же обширную, как шкура осла?
— Это ты, Петр Никитич, про свой плащ говоришь, что ли? Принимаю какое угодно пари, самое огромное! Но только с одним условием.
— С каким?
— Чтобы ты эту самую цель держал в своих руках.
— Хорошо.
— Ты ужасно смелый человек, Петр Никитич. Мое ружье действительно никуда не годится. Оно бьет всего на 10 шагов.
— И этому не поверю.
— Отсчитаем 20 шагов, стань в позу, я выстрелю в тебя из обоих стволов разом, и все-таки ты останешься цел и невредим.
— Господа, господа! — обратился к ним подслушавший их разговор статский советник не у дел Пророков. — Нельзя шутить с оружием. Черт знает что может случиться. Как можно стрелять в человека!
— Илья Дорофеич, — ужаснулся Вася Пальчик, — Илья Дорофеич! Порох!
— Где порох? — затрепетал Пророков.
— Сейчас вон те господа, — он указал на бедных родственников, — просыпали на землю около фунта пороха (примерно 0,4 килограмма. — Прим. редакции), а злокозненный Выпущинский бросил на порох папироску. Того и гляди лес взорвет!
Илья Дорофеич слегка побледнел и стал быстрыми шагами удаляться от веселой компании, закинув за плечи ружье и бормоча про себя:
— Мальчишки! Шутки шутят! Дурака нашли! Этого нельзя позволять! Я б им охотиться запретил! Молоды еще! Шутки! Порох! Молокососы!
Пройдя порядочное расстояние, он оглянулся, как бы допуская возможность взрыва леса, но, видя, что лес стоит, как и стоял, крикнул свою собаку и исчез в кустах.
— Так зачем же тебе такая бесполезная вещь? — продолжал Длинный, рассматривая полуторааршинное ружье, оказавшееся «Лепажем» с довольно косо урезанными стволами.
— Единственно — для вида. Когда я стреляю из этого ружья, наперед знаю, что объект моих кровожадных пожеланий останется цел и невредим. Тем не менее охотничьи инстинкты удовлетворены. Сознательно обманывая таким образом себя, я служу делу прогресса и не оскорбляю цивилизации бесполезными убийствами.
Длинный вопросительно посмотрел на Купидинского.
— Это с каких пор?
— Уже с месяц будет.
— Тогда и двустволку попортил?
— Тогда. Заметь: правый ствол берет вправо, левый — влево. Несмотря на все желание, нельзя убить из этого ружья ничего!..
— Что повлияло?
— Любовь. Получил приказ не осквернять рук своих кровью «несчастных жертв человеческой алчности».
— Институтка?
— Институтка.
Длинный ласково обнял за талию Купидинского и направился с ним в лесную чащу, продолжая вполголоса начатый разговор, улыбаясь своею «мефистофелевскою» улыбкою, подмигивая и иногда энергически размахивая ружьем.
Часть пятая
Между тем Вася Пальчик, так напугавший статского советника не у дел, и Печеев бродили уже по ржищу. Вася мастерски стрелял. Его жирный красный сеттер Дурак имел, однако, печальную привычку: прежде чем подать дичь, превращать ее в котлетку. Поэтому результаты Васиных подвигов были по обыкновению незаметны.
В короткое время Вася убил до 10 перепелок, но в его ягдташе болталось их всего только штук пять. Да и те очень мало напоминали перепелок. До того потеряли они перепелиные образ и подобие, побывав в пасти Дурака.
Убив перепелку, Вася стремглав бросался к ней. Но Дурак, как бы прозревая замыслы своего хозяина, вытягивал в струну свое жирное тело и в мгновение ока опережал его. Добежав до Дурака, терзающего дичь, Вася вступал с ним в единоборство. Дурак оскаливал зубы и рычал, но все-таки в конце концов выказывал надлежащее послушание и раскрывал свою широкую пасть, откуда выпадал на землю какой-то безобразный серенький комочек.
Определив после тщательного осмотра, достаточно ли в этом комочке сохранилось перепелиного начала, Вася опускал его в ягдташ или оставлял на месте, смотря по тому, какие результаты — положительные или отрицательные — давало ему исследование.
Печеев все пуделял. Васе показалось даже, что его сотоварищ палил просто в пустое пространство, но Вася ошибся, хотя и не очень. Дело в том, что Печеев, будучи охотником крайне неопытным и в то же время крайне горячим, принимал очень часто под влиянием крови, прихлынувшей к его голове и глазам, какую-нибудь маленькую, ничтожную пташку за дичь, стоящую выстрела.
Иногда темная бабочка или стрекоза, пролетавшая у него под самым носом, казалась ему где-то вдали реющею перепелкою, и он, человек обыкновенно хладнокровно-сообразительный и даже сухо-педантичный, вдруг терял всякую способность рассуждать, соображать и ясно видеть… и стрелял, стрелял.
Жаворонка, усевшегося шагах в пяти от него, он вдруг принял за нечто большое — нечто вроде куропатки, — прицелился, выстрелил из обоих стволов и разнес бедную птичку на множество частей. Когда он нагнулся к тому месту, где сидела она, то заметил только на траве несколько капель крови, там и сям 5-6 перышек и, наконец, в двух шагах от этого места маленькое серенькое крылышко…
Часть шестая
Александр Панкратьевич, одетый в серую блузу и высокие сапоги, медленно шел по опушке леса, держа наперевес массивную дорогую двустволку и любуясь поиском своего красивого кофейно-пегого пойнтера… По временам собака замирала в известной, любезной охотникам позе, полной страстного ожидания и трепета!
Тогда Александр Панкратьевич спокойно произносил «Пиль!», плавно и не горячась поднимал ружье… и не успевал коростель пролететь 10-15 шагов, как раздавался смертоносный выстрел, и падала на землю, беспомощно сложив крылья, жертва охотничьего инстинкта.
Пойнтер «вежливо» подавал птичку Александру Панкратьевичу, а тот самодовольно бросал ее в ягдташ. Так продолжалось около часу. На углу опушки — там, где лес выдался острым клином в поле, Александр Панкратьевич вдруг встретился с рыжебородым Кулаковичем.
— И Вы здесь? — вопросил Кулакович.
— И я здесь, — отвечал Карминский.
— Много убили?
— Убил-таки. Штук 12 убил. Чересчур много здесь уже этого добра. Стрелять далее совестно…
— Настоящей охотник никогда и не стреляет коростелей. После этого и на воробьев можно охотиться.
— Охота на воробьев смысла не имеет. Ну а коростель… все же птица. К тому же вы должны знать, что настоящий охотник охотится не для того только, чтобы убить… Да, наконец… Да, наконец, Вы-то сами? Что это у Вас в сумке?
— Коростель, — невозмутимо отвечал Кулакович.
— А проповеди читаете!..
— Я случайно убил…
— Сам на ружье налетел?
— Не то чтобы сам, а вроде этого…
— То есть как же это?
— Да, видите ли, опыт сделал: коростелей, думаю, много. Если провести воображаемую линию вот по такому, например, направлению (Кулакович указал рукою, по какому именно), то линия эта, наверное, пересечет, по крайней мере, одного коростеля. Взял и выстрелил по этому направлению, на всякий случай. И потом пошел. Шел, шел, все прямо, все прямо и, наконец, шагах в 70 от себя нахожу убитого коростеля… Опыт удался как нельзя лучше.
— Полно молоть! Чтобы Вы стали порох тратить на такие опыты! Таким идеалистом-экспериментатором Вас и представить невозможно!
— Только невозможное невозможно. Но оставим cиe. Недоверие обидно. Но, прежде чем расстанемся, позвольте мне порошку немножко.
— А Ваш же где?
— Да у меня солдатский. Купил у одного прапорщика стрелковой роты. Не действует. Крупен, как горох. И ружье марает…
Александр Панкратьевич засмеялся и подал Кулаковичу свою пороховницу.
Часть седьмая
Расставшись с Карминским, Кулакович стал пробираться к болотам.
Хотя в болотах все было выбито уже давным-давно, еще в июне, досужими готтентотскими гражданами, тем не менее Кулакович питал некоторую надежду на успех.
«Какая-нибудь уточка, какой-нибудь дупелек, — думал он, — все лучше, чем коростель. К тому же это не так ординарно. Все увлеклись перепелками и коростелями, потому что перепелки и коростели чуть не сами в ягдташ прыгают, а я… я вдруг один не увлекаюсь дешевыми лаврами и при всех неудачах сохраняю свое охотничье достоинство».
В лесу он натолкнулся на Длинного и Купидинскго, валявшихся на траве и дружески болтавших между собою о чем-то неуловимо-сальном и трансцендентально-грязном и при этом громко хохотавших и выразительно жестикулировавших…
— Никандр Аркадьевич, а! Никандр Аркадьевич! — крикнул Длинный, завидев Кулаковича. — Разрешите наш спор: Иеремия утверждает, что…
— Я ровно ничего не утверждаю, — перебил его Купидинский. — Я отмечаю только факт существования особой породы женщин, особого женского типа: с миндалевидными светлыми глазами, высокою талией…
Кулакович поспешил заткнуть уши.
— Господа, я человек женатый… Пощадите! Не вводите в искушение! Лучше из беды выручите… К тому же вы, кажется, и охотиться не располагаете…
— Из какой беды?
— Да купил я, видите ли, несколько фунтов пороху у прапорщика Сметаны… стрелковой роты. Ну и ни к черту не годится. Такой крупный, как… гречка. В брандтрубку не проходит… И ружье марает…
Раздобыв у приятелей на несколько зарядов пороха, Кулакович ушел, весело напевая что-то и радуясь при мысли, что теперь, когда у него столько пороху, он может даже пуделять совершенно безнаказанно, то есть безубыточно, и сердце его не будет разрываться на части от мучительного сознания бесполезно и в явный ущерб для кармана растрачиваемых зарядов…
Кулакович, нужно заметить, был скуп до безобразия. Обстоятельство это не мешало ему, однако, быть или, по крайней мере, казаться хорошим человеком. Ему прощали его феноменальную и позорную скупость именно потому, что видели в нем полезного члена общества и хорошего товарища, который, если и не принесет никаких материальных жертв во имя интересов братства, никогда и не откажется от дарового дружеского обеда с возлияниями.
О его скупости ходили разные маловероятные легенды. Говорили, например, что он обедает через день, а чай пьет только при гостях; что собак своих совсем не кормит, вследствие чего благородные животные эти и приобрели мало-помалу воровские привычки; шатаясь по кухням славного города Готтентотска и употребляя в снедь с опасностью для своей жизни говяжьи, бараньи и иные котлетки, собаки эти стали даже в устах готтентотцев символом чего-то скверного и ругательного; когда готтентотец хотел выразить нечто чересчур бранное, то, шипя и плюясь, произносил «Собака Кулаковича!». Говорили еще, что Кулакович брал со своей жены деньги за стол и квартиру…
Вообще, повторяю, скупость Кулаковича была предметом многих преувеличенных толков и стяжала ему в Готтентотске как бы венец славы, который, как и всякий венец, обходится недешево. Кулакович чувствовал это, знал, что о нем рассказывают почти небылицы, но перестать быть скупым не мог, оправдываясь тем, что порок этот передан ему по наследству от отца и даже деда…
Часть восьмая
Проходя через поляну, на которой расположились кибитки, Кулакович не утерпел, чтобы не подойти к Полковнику, важно и глубокомысленно распоряжавшемуся приготовлениями к завтраку и с полным знанием дела отдававшему бедным родственникам отрывочные приказания.
— Не так! — слышалось постоянно. — Колбасу надо резать косо! Что получше, выдвинуть вперед! «Москвитянку» — вперед, а «Светлану» — в середину! «Глебовку» не забыть! Где херес? Раскупорить! Да сыру, да икры положить еще! После… солененькое очень идет. Портер и шампанское зарыть пока в землю!.. Чтоб холодком пробрало!..
— Слушай, Полковник, — сказал Кулакович, дружески ударяя его по плечу, — дай пороху!..
Выпущинский посмотрел на Кулаковича своими светлыми глазами, лукаво улыбнулся и сказал:
— Не дам.
— Как не дашь? Да мне нужно! Представь себе, купил я у Сметаны…
— Знаю, знаю… Я тоже купил у Сметаны… Порох преотличный… Hу?
— Ну и не стреляет…
— Значит, я хорошо сделал, что не пошел, а остался здесь… наблюдать. Напрасно проходил бы… А жаль! Так не стреляет?
Но Кулакович уже был далеко.
— Ишь, жулик! — процедил ему вслед Выпущинский и опять погрузился в хозяйственные заботы, удивляя и поражая бедных родственников своими кулинарно-организаторскими талантами.
Часть девятая
Было между 11 и 12 часами, когда Александр Панкратьевич и все гости его, за исключением статского советника не у дел, собрались к завтраку. Благообразие обстановки завтрака заставило всех любезно и даже с уважением посмотреть на Выпущинского. Выпущинский, как бы стыдясь похвал, выражаемых в столь откровенной, хотя и безмолвной форме, опускал глаза долу или смотрел в сторону, пощипывая свою гигроскопическую бородавку.
— Где же Илья Дорофеич? — вопросил Карминский.
— Илья Дорофеич! Гоп, гоп! — крикнули разом бедные родственники, изображая из себя нечто вроде хора или кордебалета.
— Илья Дорофеич обиделся, — сказал Выпущинский.
— На кого?
— На Васю.
И Выпущинский рассказал, какую недостойную шутку проделал Вася со статским советником не у дел, который искони отличался робостью и пугливостью.
— Это пустяки! — заметил, смеясь, Карминский. — Илья Дорофеич отходчив. Нужно его разыскать. Он просто заблудился.
— Илья Дорофеич! Гоп, гоп! — еще раз крикнули бедные родственники.
Но Ильи Дорофеича не было. Подождав с полчаса, решили приступить к завтраку без Ильи Дорофеича.
Часть десятая
День выдался жаркий. Солнце жгло уже немилосердно и бросало на поляну почти прямые лучи, когда, наконец, к завтракавшей компании подошел, еле передвигая ноги, Илья Дорофеич. Выражение лица его было обиженнее, чем обыкновенно. Не говоря ни слова, он опустился на ковер, лежавший в некотором отдалении от пирующих, и стал мрачно грызть ногти.
— Илья Дорофеич! Идите к нам! — крикнул Карминский.
Илья Дорофеич молчал.
— Илья Дорофеич! Вася просит у Вас прощения! — сказал Длинный.
— Да! Да! Да! — подхватил Вася.
Ответа не было.
— Илья Дорофеич! Кулакович ест с таким аппетитом, что, пожалуй, через четверть часа от этого обильного завтрака останется одно только воспоминание! — пригрозил Купидинский.
— Это весьма может статься! — подтвердил Кулакович, глотая громадные куски пирога.
И опять никакого ответа.
— Может быть, Илья Дорофеич обиделся за то, что мы не подождали его к завтраку? — предположил вполголоса Печеев.
— Престранный человек, — сказал, улыбаясь, Карминский. — Все может быть. Полковник! Уговорите Вы Илью Дорофеича…
Выпущинский ел все это время молча, ни на кого не глядя, запивая чуть не каждый кусок «москвитянкой» или «глебовкой». Его бородавка из бледно-розовой стала коричневой и слегка как бы отсырела. Когда Карминский обратился к нему с просьбой уговорить Пророкова, Выпущинский тряхнул головой и стал протирать глаза, словно впросонках, не понимая, чего от него хотят.
— А что? — спросил он.
Карминский повторил просьбу. Выпущинский посмотрел в сторону Ильи Дорофеича и вдруг побледнел и протянул к нему руки.
Если б побледнел кто-нибудь другой — например, Длинный, Купидинский, Вася, — страх никому не сообщился бы с быстротою; прежде чем трепетать, исследовали бы причину страха; но побледнел Выпущинский — муж солидный и зрелых лет, и все усмотрели в его страхе нечто серьезное, и все более или менее почувствовали в душе своей робость и содрогание.
— Что такое, Полковник? — спросил Карминский серьезным голосом. — Кажется, все обстоит благополучно!
— Медведи! — шепнули бедные родственники.
А Выпущинский все сидел в своей странной позе и молча глядел на Пророкова. Пророкова стали беспокоить эта поза и это испуганное выражение глаз Выпущинского.
— Что Вам нужно, милостивый государь? — обиделся Пророков. — Как Вы смеете на меня так смотреть?!
— Шампанское! — произнес, наконец, Выпущинский ко всеобщему изумлению. — Шампанское! Под Вами — шампанское! Чтоб солнце… наполовину в земле… Положил… И ковром прикрыл… А Вы сели… согреете… взорвет!..
— Взорвет! — крикнул в ужасе Пророков и только что хотел оставить ковер, как раздался треск, и благородное вино покинуло тесную стеклянную оболочку, в которую было заключено. Никаких бед оно не наделало, только ковер залило; к тому же лопнула всего одна бутылка; но Пророков до того перепугался, что подскочил наподобие резинового мяча и мгновенно очутился, по крайней мере, в 10 шагах от места взрыва…
Часть одиннадцатая
В промежуток времени от завтрака до вечера, когда густой сумрак окутал лес и на темной синеве неба засверкали разноцветные звезды, случилось несколько событий значительной важности.
Во-первых, пришел в себя Илья Дорофеич и попросил есть, но все съедобное было уже истреблено Кулаковичем; с трудом найдена была только корочка хлеба, которую Илья Дорофеич, однако, есть не стал.
Во-вторых, два кучера и бедные родственники «нарезались» до самозабвения; кто-то из них разложил костер, и все они начали прыгать через огонь и при этом горько плакать. В-третьих, бородавка Выпущинского совсем стала темною и вдвое больше, чем была; Выпущинский уже мало понимал из того, что видел, смеялся и напевал по временами «Пчелка златая»; пить, однако, не переставал.
В-четвертых, Александр Панкратьевич, ревнуя о пользах земской службы и видя, что мирное празднество принимает характер довольно шумных оргий, потихоньку кивнул Пророкову, Васе и Печееву, шепнул что-то трезвому кучеру и исчез вместе с ними; на другой день утром он сидел как ни в чем не бывало в управе в своем председательском кресле и занимался делами.
В-пятых, Купидинский и Длинный воспылали друг к другу неимоверно страстною любовью и то и дело целовались. Наконец, в-шестых, Кулакович вообразил себя квартальным надзирателем…
Наступила ночь. Костер погас. Только несколько угольев тлелось еще. Луна взошла и залила своим матовым серебряным светом лес, поле и дорогу. Неясные тени, словно привидения, выросли позади каждого предмета. Деревья стояли как-то мрачно, насупившись, не шелестя ни единым листочком.
Из туманного сумрачного далека доносились иногда слабые, неопределенные звуки, словно вздыхал кто или тяжело и редко дышал; то, может быть, птица, внезапно чем-нибудь разбуженная, в паническом страхе снималась с ветки, на которой спала, хотела летать, но сон снова овладевал ею, и она беспомощно падала, цепляясь по пути за листья и маленькие веточки, пока не встречала более твердой и прочной точки опоры.
Иногда жалобно и уныло звякал где-то далеко-далеко колокольчик. Воздух был необыкновенно чувствителен к малейшему звуку. Казалось довольно было в этой невозмутимой тишине сказать что-нибудь шепотом, чтобы шепот взволновал дремлющее воздушное море и был услышан на далеком расстоянии.
— Господа, — заявил Кулакович, еле ворочая языком, — ночь очень хороша… как «москвитянка» или шампанское… упоительна, как сказал Пушкин, если только он это сказал… Вот что: пора домой!
— Пора, пора! Будем ехать! — послышались в ответ голоса. — Будем ехать! Где Генерал? Генерал, гоп, гоп!!
— Генерал уехал.
— Куда?
— В болото.
— Быть не может!
— Не в болото, так домой. Куда-нибудь, одним словом!..
— Ну и черт с ним!
— Черт с ним!
…Стали звать кучеров.
— Михайло! Игнат! Кирило!
Никто не отзывался. В ответ слышалось храпение, но, откуда оно исходило, охотники не могли определить. Положили ехать без кучеров. Кулакович занял место кучера в одной кибитке, Выпущинский — в другой.
— Садитесь, господа! Пора домой! Садитесь!
Охотники не без усилий взобрались в кибитки. Собаки прыгнули вслед за ними…
— Но! Фюить! — задергали вожжами Кулакович и Выпущинский.
Кибитки тронулись медленно, на каждом шагу совершая крутые повороты, так что у охотников совсем закружились головы. Мало-помалу хмельное веселье охотников уступило место тихой задумчивости. Не прошло и 10 минут, как все они заснули.
Только Кулакович и Выпущинский в качестве возниц дольше всех боролись со сном. Чтоб не заснуть, они громко кричали на лошадей и громко ругали их. Ехали обе кибитки рядом. Кулакович иногда справлялся у Выпущинского о том, куда поворачивать.
— Прямо! — отвечал Выпущинский. — Все прямо.
— Как прямо?! А перекресток разве мы уже проехали?
— Уже!
— Ой, смотри, Полковник, приедем мы к Десне, а не в Готтентотск. Да уж быть по-твоему!
— По-моему, брат, лучше! Прямо, все прямо! Но, фюить!
— Но, фюить!
Первый заснул Выпущинский. Кулакович не замедлил последовать его примеру…
Часть двенадцатая
Пробуждение было для всех ужасно неприятное; ибо произошло оно не в Готтентотске, а в том же самом лесу, на той же самой поляне, где праздновались именины Александра Панкратьевича.
Дело в том, что ни Кулакович, ни Выпущинский, снаряжаясь в путь-дорогу, не догадались запрячь лошадей, которые преспокойно паслись всю ночь на лугу.
А без лошадей, как известно, если только ехать не по чугунке (по железной дороге. — Прим. редакции), далеко не уйдешь.
О. И-ский, 1879 г.