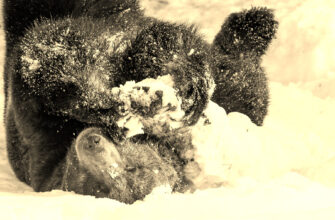Я проснулся сразу, словно кто-то толкнул меня в бок. Не открывая глаз, лежу, наслаждаясь теплом прогретого за ночь спального мешка. За тонкой парусиной палатки глухо шумит тайга. Это неугомонный предрассветный ветерок нетерпеливо будит заспавшееся утро.

Осеннее утро
Ворчат, бормочут о чем-то своем таежные исполины. Я тихо лежу, прислушиваясь к шуму деревьев, и различаю уже по голосам своих близких соседей. Вот жалобно покряхтывает старая полузасохшая сосна, ворчливо поскрипывает огромная осина, упруго гудит на ветру мохнатыми пушистыми лапами молодая стройная кедерка. Едва слышно шуршат, скользя по палаточному полотну, падающие с осины листья.
В равномерный привычный шум вплетается плеск таежного озера. Разгулявшаяся волна глухо шлепается о корму «Прогресса». Катер недовольно гудит дюралевыми бортами, мягко тычась носом в топкий илистый берег. Где-то в глубине леса голосисто картавит проснувшаяся кедровка.
Пора вставать. Мы еще с вечера договорились с напарником сходить сегодня утром за глухарями. Высвобождаю руку из теплого спальника и трогаю за плечо сладко сопевшего во сне соседа.
— Вовка, спишь?!
Сонное, безмятежное дыхание прекратилось, но напарник молчит. Слышу, как он провел по каленой от холода стенке палатки рукой. Жестко гремит полотно, точно лист железа.
— Однако иней! — он помолчал и добавил: — Хо-о-роший утренник.
Кратким замечанием было сказано все. В такое подмороженное утро любит дремучая птица встречать восход солнца на огромных, под стать ей, деревьях. И особенно любит она лиственницу.
Еще лежу некоторое время неподвижно, наслаждаясь теплом и комфортом спального мешка, внутренне собираюсь, точно купальщик на берегу, готовый ринуться в холодную воду.
Наконец мысленно приказываю себе: «Хватит лениться… Пора вставать!» — и больше уже ни секунды не раздумывая, откидываю клапан спальника и сажусь. Холодный воздух тугой повязкой обволакивает разогретое тело. Где-то глубоко внутри груди зарождается мелкая противная дрожь.
В темной палатке руки привычно ищут в головах спальника свитер и брюки. Торопливо натягиваю на себя одежду, достаю из-под спальника теплые портянки. Наконец, оделся и, неловко пригнувшись, на четвереньках выползаю из палатки.
Недалеко от входа в палатку, прикрывшись невесомым пеплом, точно пуховым одеялом, с вечера дремал прогоревший костер. Я разворошил его палкой. В лицо пахнуло жаром; вишнево-красные угли тускло рдели в мягких предрассветных сумерках. Положил на жар заранее приготовленную бересту и мелко нарубленные дрова. Потрескивая, береста сворачивалась в тугие скрутки, пузырилась, чернела, пока не вспыхнула ярким пламенем. Дружно занялись и дрова.
Я присел около костра на толстую валежину. Протянул руки к огню, внимательно вслушиваясь в привычные звуки, окружившие стан. В просветах между вершинами деревьев на побледневшем небе мерцают угасающие звезды. По низкому небу ползут черные хвостистые облака, будто намалеванные размашистой кистью художника.
В палатке чертыхался вполголоса Владимир. Я не могу сдержать торжествующе-злорадной улыбки: «Давай, давай — пошевеливайся!» Уж очень неприятная процедура: вставать с теплой постели и одеваться в холодной палатке.
Наконец из временного жилища вывалился и Володька. Притопывая сапогами и потирая руки, он приблизился к костру. Присев на корточки, тянет ладони к живительному огню. Володька задрал голову и смотрит поверх деревьев. Перебрасываемся между собой короткими фразами:
— А че, не рано встали? — и напарник зябко передернул плечами.
— Не бойся, не заметишь, как рассветет. Чай попить не успеем! — ответил я, поправляя висящий на тагане чайник.
— Ну уж, — ухмыляется Вовка.— В отпуске, да чай не попить. Это мы всегда успеем!
Было немножко грустно. Сегодня последний день на стане, а завтра — домой. Нас ожидал длительный переход на лодке по Оби.
За многие годы выработалась уже привычка: последний день посвящался тайге и глухарям, если, конечно, повезет.
Встреча с гадюкой
След в след идем с напарником по знакомой тропинке. В предрассветных сумерках вплотную подступала тайга. Сумрачно шумит ветер в кронах деревьев. Неуютно, жутковато человеческой душе в эти часы в таежной глухомани.
Слабо похрустывает мох, прихваченный утренним заморозком. Головки резиновых сапог побелели от непрерывно осыпавшихся кристалликов инея.
Знобко… Вороненая сталь ружейных стволов обжигает пальцы. Беру ружье подмышку и засовываю кисти рук в карманы брезентовой куртки. Отогревшиеся руки болезненно заныли; пульсирующее тепло медленно, толчками добиралось до кончиков пальцев.
Наконец небольшое моховое болотце кончилось, и тропинка, попетляв в густом хвойном подлеске, выбегает на гриву, заросшую редкими соснами, по которой пролегла старая лесовозная дорога. Молча идем рядом, каждый по своей колее.
Небо все светлее и светлее. С каждой секундой отчетливее проступают деревья. Скоро рассвет. Дорога бежит прямо, упираясь в полыхающий край неба, по обе стороны — сосны, прямые и высокие. Вишневая заря, точно угли прогорающего костра, разгорается все ярче и ярче. Наконец из-за горизонта брызнул яркий поток ослепительно холодных лучей. В эти торжественные минуты ветерок стих. От инея все искрится на солнце: и мохнатые сосновые лапы, и низкорослый кустарник, и трава…
— Да-а-а! — неопределенно восклицает напарник. Он смотрит на меня просветленным взглядом.
Я хмыкаю и нарочито равнодушным голосом говорю:
— Не говори, паря! Сам всю жизнь мучаюсь и никак не могу разрешить стоящую передо мной дилемму. Не знаю, что и выбрать: или восход солнца, или сладкий утренний сон!
Володька хохотнул:
— Да-а, дилемма… По-моему, так все хорошо! Одно плохо — отпуск кончается!
— Это уж точно! — соглашаюсь я.
Постояв еще несколько мгновений, мы снова тронулись в путь. Сделав несколько шагов, напарник вдруг остановился и, пригнувшись к земле, удивленно воскликнул:
— Валька, гляди, змееныш!
Я тоже остановился. На обочине дороги, свернувшись в кольцо, лежала серебристая змейка. Заметив людей, она медленно подняла голову и, изогнув шею, приняла угрожающий вид.
— Гадючка?! — удивился я. — Откуда ты взялась? Все сородичи твои уже давно попрятались на зиму! — мы разглядывали это чудо природы.
Тонкое тело змеи переливалось в солнечных лучах. Было непривычно видеть ее на холодном искрящемся инее. Я снял с головы шляпу и стал ее полями дразнить змейку. Двенадцатисантиметровое создание едва слышно шипело, ударяя головкой шляпу. Движения ее вялые, точно в замедленной киносъемке. Продолжая дразнить маленькую гадюку, я приговаривал:
— Что же с тобой делать? Видишь, какая ты злюка! Тебя же за пазуху не положишь, в карман не спрячешь!..
— Сожрут,— спокойно заверил мой спутник.— На ее голову ворон и сорочни хватит!
Токующий глухарь
…А солнце продолжало светить. Мы одни с Владимиром в этом сказочном мире, насквозь пронизанном золотистым светом. Каждый звук, усиленный бесконечностью пространства, гулко отдается в груди, звонко постукивает в висках. В такие торжественные минуты не хочется ни думать, ни говорить… К горлу непроизвольно подкатывал восторженный горячий ком.
Мы тихо идем по таежной дороге. Величавые сосны упираются курчавыми вершинами в синий небосвод. Глаза привычно обшаривают кроны деревьев, стараясь высмотреть в густом хитросплетении сучьев хозяина тайги — глухаря. Пусто…
Дорога все так же неторопливо бежала впереди нас по песчаной гриве. Справа, сквозь золотистые стволы деревьев, угадывался просвет. Это было знакомое моховое болото, заросшее мелким и редким березняком, где мы постоянно брали клюкву.
Вдруг мой спутник резко остановился. Повернув голову в сторону болота, он внимательно прислушался. Затем, повернувшись ко мне, тихо спросил:
— Валька, это че?
Я тоже прислушался. Те-ке, теке — словно кто-то постукивал деревянными палочками о сухой ствол дерева. Звук был слабый, но настолько чистый и ясный, что я не поверил своим ушам. «Господи, — мелькнуло в голове,— это же глухарь токует!».
Кровь ударила в голову. Перехватило дыхание. Я предостерегающе поднял руку и хриплым от волнения голосом просипел:
— Тише, Вовка! Глухарь токует!
Постукивания все учащались и учащались, пока не переросли в одно сплошное точение.
— Как токует, как токует, стервец, словно весной! — не удержался от восклицания я.
Вдруг песня оборвалась. Мы испуганно замерли. И опять робкое, настороженное «те-ке» — и снова молчание. Пауза казалась нестерпимо длинной. Когда мы подумали, что глухарь замолк окончательно,— снова настороженное «те-ке». С облегчением вздохнули; паузы все короче, сухие палочки постукивают все чаще, пока не слились в сплошное скрежетанье, словно кто водил напильником по лезвию ржавого ножа.
Мимолетно взглянул на напарника, по его лицу бродила какая-то бессмысленно-счастливая улыбка, отсутствующие глаза и окаменевшая от напряжения фигура. Мой вид, наверное, был не лучше. Наконец, очнувшись от охватившего оцепенения, я машинально передвинул ружье и пальцами крепко сжал шейку приклада.
— Только под вторую часть песни… Когда заточит!
— Знаю! — отмахнулся напарник.
Глухарь заливается… и мы разбежались. Теперь кроме глухариной песни для меня больше ничего не существует во всем белом свете. Делаю два-три стремительных прыжка и замираю на месте.
Песня все ближе и ближе. Ее негромкое звучание таит в себе столько дремучей силы, отдает
такой древностью, что невольно слышится в ней и журчание горного потока, и шум разгулявшегося ветра, и гортанное камлание шамана, и еще более древние отголоски языческих пращуров — охотников, танцующих вокруг костра. Колдовской мотив завораживал, кружа вокруг меня. И нельзя разобрать, где находится певец.
Я растерянно остановился. А песня — вот она, рядом: «Теке, те-ке…». Обшариваю глазами вершины близстоящих сосен. Как сквозь землю провалился.
Прямо передо мной стоит кряжистая, приземистая сосна. Ее побелевшие, узловатые корни крепко вцепились в землю на самом краю песчаной гривы. Толстый витой ствол, ободранный временем, невольно притягивает к себе взор. Внимательно присматриваюсь к нему. Вдруг из-за ствола выглядывает кончик черного хвоста, и сразу же на противоположной стороне ствола замечаю белесоватый клюв и переднюю часть головы с набрякшей багряной бровью. Я ахнул:
— Ну и здоровый же ты, лешак!
Не могу оторвать взгляда от матово-белого, подрагивающего от страсти клюва. Легкий шорох отвлекает мое внимание. Я повернулся и увидел Володьку, запутавшегося в кусте дикой акации. Остервенело машу ему кулаком. Увидев мое яростное лицо, напарник замер.
Но поздно… Певец умолк. Я прямо кончиками волос чувствовал настороженность таежного красавца. В следующее мгновение я только заметил стремительно падающую тень к земле. Загремев жестью распахнутых крыльев, набирая высоту, над болотом летел глухарь. Я выскочил из-за дерева, провожая взглядом аспидно-черную крупную птицу.
Обессиленный, опускаюсь на первую попавшуюся валежину, все еще провожая взглядом уменьшающуюся черную точку в небе, пока она не скрылась в темнеющей полоске леса на противоположной стороне болота.
— Улетел… Ну и шут с ним! — проговорил подошедший ко мне незадачливый охотник.
В голосе напарника совсем не чувствовалось сожаления. Он опустился рядом со мной на валежину, примостив ружье между колен.
Перед нами лежало огромное моховое болото, заросшее мелким и редким березняком. Подмороженные звонким утренником, пучатся моховые горбы, усыпанные крупной клюквой. Круглые бока ягоды потели на утреннем солнце, покрываясь ярко-красной глянцевой корочкой.

Музыка первого льда
…Вот и прошел еще один золотой осенний денек. Я стою на таежной опушке. Прямо передо мной — неширокая прибрежная полоса, заросшая жесткой побуревшей травой, за которой привольно раскинулось озеро. За спиной жарко горит костер, где возится Владимир, готовя ужин. Золотистое пламя отбрасывает причудливые тени на пожухлую траву.
Я медленно иду по тропе, жестко шуршит осока, цепляясь за сапоги. Следом за мной неторопливо бредет темнота, выползая из-под лесного полога, она постепенно заполняет собой все окружающее пространство.
Справа на горизонте стеснительно горит вечерняя заря, слева далеко в озеро врезается мыс, на котором некогда было селение. С незапамятных времен жили здесь остяки — коренные жители Сибири. С чувством глубокого уважения думаешь о людях, умевших так удачно выбрать место для поселения.
Я смотрю на заброшенное селение и становится горько: только два полуобвалившихся сруба с обнаженными стропилами. Неприглядно торчат они, словно ребра павших животных на скотомогильнике. А ведь жили же люди много веков: любили, рожали детей, хоронили стариков, и ничего не осталось… Ни людей, ни жилья, ни погоста…
Запутавшись в обнаженных стропилах, из-за леса выплывает луна. Облив окружающий мир мертвенно-бледным светом, она искусной рукой графика прочертила горизонт, разделив мир на две части: выше черты — призрачный серебристый свет, ниже — бархатная темнота.
На бесшумных совиных крыльях на землю опускается ночь. Тихо подхожу к берегу и осторожно присаживаюсь на дюралевый нос лодки. От качнувшегося корпуса побежали по поверхности озера легкие волны. Едва слышимый хрустальный звон покатился вдоль береговой линии.
Я замер. Наконец вода успокоилась, и звон утих. Качнул лодку сильнее — и снова чистейший хрустальный звон поплыл в воздухе, удаляясь от лодки все дальше и дальше. Завороженный, слушаю эту неземную музыку. И только теперь до меня доходит: серебристыми голосами звенят тончайшие пластинки льда начинавшихся заберегов, которые взламывала легкая озерная волна.
И подумалось мне, что только в такую тихую осеннюю ночь и можно услышать потаенную песнь самой природы. И еще подумалось, что мне чертовски повезло, я услышал ее.
— Валька! — со стороны стана послышался голос напарника.
Я встал. Под кронами деревьев билось багровое зарево. Шорох шагов заглушил музыку первого льда. Подойдя к костру, я сказал:
— Ну все, Вовка. Теперь уже точно пора сматывать удочки!
— А че?
— Да ниче, забереги начинаются!
Валентин Решетько, г. Томск. Фото автора