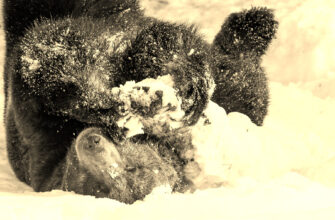Славная вещь охота!.. Кто не охотился, тот, значит, еще всего не перечувствовал, всего не переиспытал в жизни. Какими-то волшебными чарами перерождает она человека и как благодетельная фея невидимо врачует его недуги. Житейские ли невзгоды посетили вас, сомнения ли волнуют вашу душу, изменил ли ваш друг — скорее за ружье да в лес, на заманчивые болота: охота все исцелит, все заставит позабыть…
И пошел себе охотник по лугам и лесам; нипочем ему чащи дремучие, мало проходимые болота, жар и духота летнего дня, холод и сырость осенних ночей… Ему все — трын-трава, все — пустяки…
Полон благородной страсти, забывает он весь мир, самого себя, свою семью, свои нужды, все… как в омут погружается в удовольствия охоты, упивается ими, страдает от неудач; способен скорее, чем когда-либо, «вцепиться» в спорящего собрата-охотника и скорее, чем когда-либо, запить с ним мировую; горячится, ест «за десятерых», спит богатырским сном, начинает говорить охотничьим языком, а врет… врет, как «по заказу» и, главное, сам в душе чувствует, что врет…
Да, впрочем, все это хорошо известно тому из читателей-охотников, кому попадутся в руки эти строки… А если бы он не согласился со всем этим, то…
Позвольте, позвольте!? Вы отпираетесь; вы, например, не хотите сознаться, что привираете на охоте?! Пусть будет и так!.. А разве вам не случалось, во время веселой пирушки в лесу, освещенном сияющим костром, прихвастнуть своими подвигами?!.. А?! Что!? Небось, краснеете?!.. А кто сваливал всю вину своих промахов то на ружье, то на собаку, то, извините за выражение, черт знает на что?!.
Все вы же, господин охотник! И краснеть тут нечего, право, нечего. Никому не вредна невинная ложь ваша; да и врете вы без всякой задней мысли, а так себе, к слову… Удалось соврать, ну так и сойдет! Не удалось — и какой-нибудь весельчак-охотник закричит: «Э, батенька, заврался, заврался!!!…», а вся компания разразится хохотом — ведь засмеетесь же и вы добродушным смехом и тут же признаетесь в своей невинной лжи…
Да, славная вещь охота!.. Кажется, вещь пустая, легкая; ребенок поймет, а пойди ты, сколько нужно уменья, сколько сноровки. Другой стреляет, стреляет, что ни выстрел, то «ах» да «ох», а в результате — ничего… Ну что это за охота! И туда же — в охотники лезут! Далеко кулику до Петрова дня!..
— Да что ты разворчался? — спросят меня.
— Да как же, помилуйте! Это ли охота? Есть ли во всем этом хоть подобие охоты?!. Эх, знавал я охотников… не чета теперешним… Пожил ведь и я на своем веку, виды видал и поохотился, слава Богу, довольно да и стреляю — ничего себе… Не улыбайся, читатель! Знаю, ты хочешь напомнить мне старинную поговорку «Ржаная каша сама себя хвалит?». Не смейся!..
Еще не так-то и давно, года три тому назад, под осень, убил я почти «без пуделя» (без промахов. — Прим. редакции) 7 бекасов… Тогда я охотился с Иваном Ивановичем Кошкиным, моим ближайшим соседом… Помню я, как его бурый кобель Круп погнался за бекасом, а я кричу:
— Иван Иванович! Иван Иванович, да приберите Вы Вашу мразь!!
А тот… Но что я заболтался с вами!.. Ведь вы еще незнакомы с Иваном Ивановичем Кошкиным?! Так позвольте вас познакомить!..
Великий оригинал
В Г-ом уезде В-ой губернии кто из охотников не знал Ивана Ивановича Кошкина? Обладая неисчерпаемым запасом пикантных анекдотов, человек солидного возраста, с важною осанкою и чином надворного советника (ранг не малый!), Иван Иванович был душою местного общества охотников и, как говорится, душа-человек. Ни одна охота, ни одна попойка не обходились без него. Всюду являлся он, очаровательный и солидный, с готовностью подтрунить над каждым; и, замечательно, никто не обижался на его подшучивания.
В охоте он считал себя либералом, не признавал неприкосновенности чужих лугов и лесов (якобы «данных Богом для всех человеков»), охотился на них без церемоний и смело утверждал, что право охоты — есть право каждого.
— Ах, — говаривала ему при этом часто соседка-помещица Иванова. — Какие Вы социальные идеи проповедуете!.. Ах, оставьте, оставьте!! Не доведут они Вас до добра!
— Я, что же?!.. Ничего!.. отвечал на это обыкновенно Иван Иванович многозначительно, но вместе с тем скромно опуская глаза…
Рассказывали мне, что в очень юных летах он страстно любил опустошать гнезда пернатых обитателей лугов, но в солидных годах сделался ревностным проповедником неприкосновенности чужого дома и немилосердно драл мальчишек-пастухов — известных разорителей птичьих гнезд — и вселил в них такой ужас к своей особе, что, завидя его, они улепетывали, как угорелые, так, что только пятки сверкали.
Рассказывали мне также… Да мало ли что мне еще рассказывали про Ивана Ивановича?!.. Так, например, аптекарь, старый охотник, местный старожил, помнит и всем желающим рассказывает, как на утиной охоте дробь, пущенная по сидячей на воде утке каким-то неловким охотником, впилась рикошетом… как бы это повежливее выразиться?!.. Ну, одним словом, впилась… так, что долго Иван Иванович отсиживал себе все правую сторону…
Ну, да Бог с ними! Мало ли что рассказывают люди; может быть, и из зависти!.. Обвинить человека легко… Да и кто поверит, чтобы дробь могла впиться… Да еще кому же? Дорогому Ивану Ивановичу… надворному советнику и кавалеру?!.
Что бы ни говорили местные предания, а Иван Иванович был великий оригинал как в общественной жизни, так и в охоте. Так, для примера, из его частной жизни можно указать на тот факт, что, нюхая табак (а он был его яростный потребитель), он насыпал его сначала на ямку верхней губы, а затем уже, изобразив из нее подобие сушеного гриба, приближал к носу и уже тогда только вдыхал в себя любимую пыль…
Опять-таки, встречаясь с кем-нибудь на улице, подавал только два пальца правой руки; целуя у дам ручки, — а он был высокий ценитель женской красоты, — он, нагибаясь, несколько уклонял правую ногу назад…
Вообще любил себя держать с достоинством… Когда приезжал в губернский город и присутствовал при архиерейском служении в соборе, то, становясь по своему положению в обществе среди «сильных мира сего», давая дорогу губернатору, не склонял «выи» (задней части шеи. — Прим. редакции), а, согнув таковую, делал какое-то особенное, почти неуловимое движение головою, полное достоинства и независимости… Впрочем, и тут нашлись злые языки, и какая-то дама из «приятных во всех отношениях» сказала ему в присутствии архиерея и многих высокочтимых сограждан:
— Что это Вы, Иван Иванович, кланяетесь в соборе, как будто чем-нибудь подавились?!.
Охотник со странностями
И много еще мог бы я рассказать про его частную жизнь, про его привычки… Но умолчу… Перейду прямо к его охотничьим странностям…
Как я уже упомянул в начале рассказа, Иван Иванович был великий оригинал и либерал по части охоты. Так, скупая глубокою осенью куропаток, пойманных сетями, он кормил их всю зиму, а затем выпускал весною на свои луга: плодитесь, дескать, и размножайтесь!
Всякий коршун, к какому бы виду этой хищной породы ни принадлежал, появлявшийся в пределах его болот, делался его заклятым, как бы личным врагом… Ему тотчас же объявлялась война… назначалась премия за его голову, и в конце концов пернатый разбойник нес достойную кару за свои злодеяния…
Справедливость требует заметить, что хитрые мужики тащили ему иногда за несколько верст убитых коршунов; но все же Иван Иванович продолжал аккуратно выплачивать назначенную им самим плату.
Иван Иванович вообще ужасно любил придерживаться старых традиций своих предков. Вынутая из убитой дичи дробь почиталась им «счастливою», и он ее клал в заряд со свежею дробью; охоты никогда не начинал, не перекрестившись; верил в «дурной глаз» и тому подобное.
Костюм его состоял из суконных панталон, иногда заменявшихся парусиновыми и округлявших его могучие формы, сюртука неопределенного цвета, впадавшего в болотный, и соломенной шляпы времен Людовика XIV, Бог знает, где им добытой. Говорят… Но лучше я сам все расскажу. Вся фигура Ивана Ивановича, облаченная в этот костюм, напоминала собою, как выразился стряпчий К., нечто производящее впечатление кошмара. На меня же она всегда влияла как-то успокоительно.
Был у Ивана Ивановича и пес… Породы он был неопределенной; да не в породе дело, а в том, что и собака эта по прозванию Круп была со многими странностями, как и ее господин.
В ее движениях были всегда стремление, натиск, неуловимые быстрота и «грация». Относительно последней Иван Иванович даже создал разные эпитеты: так, например, он утверждал, что его Круп, почуяв куропаток, «падал ниц» и, подняв хвост, склонял его немного на бок, отчего вся фигура изображала «удивление и застывший порыв» (буквальные слова Ивана Ивановича).
Я, положим, не находил в этом ничего привлекательного, тем более что и хвост свой Круп склонял только от того, что кончик его был вечно ободран, так как этот в своем роде единственный пес кожу с хвоста своего имел обыкновение оставлять на кустах и сучьях… (Я должен отметить, что во многих подобных взглядах не сходился с Иваном Ивановичем.)
Круп по природе был великий охотник и по-своему умел ценить дичь. Едва только птица падала, он уже душил ее; еще миг… и она сжиралась, причем ничто похожее на угрызение, если не считать окровавленный пух, не появлялось на собачьей морде его. На все укоризны Ивана Ивановича Круп с совершенно серьезным видом вилял хвостом, облизывался и… продолжал душить и жрать дичь.
Такие свойства собаки принуждали часто Ивана Ивановича входить в неловкое положение. Так, я сам часто был свидетелем такой сцены: раздавался выстрел, и после него к упавшей птице неслись и Круп, и Иван Иванович…
На буксире
Бешеный нрав Крупа Иван Иванович, несмотря на либеральность взглядов на характер и воспитание пса (Иван Иванович, оставаясь верным своим принципам, и тут утверждал, что и Круп охотится по-своему, «по-собачьи»), пробовал умерять хотя гуманными, но радикальными мерами.
Однажды после долгих и глубокомысленных размышлений был придуман следующий способ: Иван Иванович перед охотою, забрав с собою бечевки, решил связать ими Крупа так, чтобы, не мешая ему бегать, стеснять его бешеный аллюр. Для этого он устроил так: переднюю правую ногу связал с заднею левою ногою, а переднюю левую — с заднею правою.
Затем поперек тела собаки он сделал петлю, подтянувшую таким образом к туловищу Крупа все вышеописанные веревки, а к этой петле привязал бечевку саженей в 10 длиною, которую и прикрепил к своему поясу, чтобы Круп не удалялся от него, Ивана Ивановича, на слишком неопределенное расстояние.
Вышли мы на болото, и несчастный Круп, несмотря на отчаянное сопротивление, несмотря на все умоляющие и тоскливые взгляды, был связан упомянутым способом. Только что почуял он бекаса, как потянул… потянул, потянул веревку и, не обращая никакого внимания на протесты со стороны Ивана Ивановича, потянул и его за собою «на буксире». Напрасно пытался Иван Иванович обуздать Крупа: все было тщетно. Веревки, путавшие ноги, только заставляли Крупа бежать иноходью, и такой же иноходью заставлял он бежать за собой и Ивана Ивановича…
Наконец… стойка… Картина величественная… Круп на натянутой веревке, вытянувшийся в струнку, с раздутыми ноздрями и выпученными глазами, а за ним, держа ружье наготове, тоже с выпученными глазами и раздутыми от усталости ноздрями — Иван Иванович… Но это был только миг… Другой миг — и все переменилось… Я сначала даже не мог сразу сообразить, что случилось… Но за меня пусть говорят факты.
Вылетает бекас, Круп бросается; раздается выстрел; затем Иван Иванович куда-то исчезает, будто проваливается, и вот на поверхности болота поднимаются вверх из тучи грязных брызг его гигантские ноги, беспомощно болтающиеся в воздухе… Крупа и след простыл… Картина была ужасная!..
Помилуйте! Надворный советник и кавалер, наш милейший Иван Иванович, душа Г-го общества, и вдруг… Но лучше перестану говорить об этом. Есть вещи, о которых можно говорить лишь с вежливым участием…
Итак, единственное средство не помогло. Круп, в буквальном смысле слова, «порвал все узы» и в конце концов оказался либеральнее самого Ивана Ивановича.
— Либерал! — бормотал измученный охотник, отплевывая грязь, попавшую ему в рот, и отирая платком голову, на которой обмокшие волосы, кое-где еще покрывавшие ее, были залеплены плесенью, ржавчиной и илом…
И что же? Хоть бы прибил пса! Ничуть не бывало. Напротив, приласкав его и сняв с него оборванные бечевки, он только покачал головою, приговаривая:
— Либерал, сущий либерал!..
Затем, придя домой и обмывшись, Иван Иванович вдруг как захохочет, как захохочет:
— Представь себе… я… вниз головой… Ха-ха-ха!!!… Ай да Круп!.. И того, значит… головой… и того… полон рот… Ха-ха-ха!.. Ну не оригинал-ли?!..
Проделки пса
Как бы то ни было, а Круп отстоял с честью свою независимость.
— Любовь к свободе, — говаривал частенько Иван Иванович, — есть высочайший дар неба, сиречь, всякая тварь стремится свободно предаваться своим страстям… Где нет свободы, нет охоты!.. Мы с Крупом понимаем друг друга.
— Снюхались! — подсказал бывший при этой речи аптекарь.
Но, обладая такими высокими охотничьими качествами, Круп в частной жизни проявлял много коварства и подлости. Он смело с горячей плиты уносил жаркое, если зазевавшаяся кухарка не успевала пустить в него поленом, съедал из-под наседок яйца, выпивал молоко…
В обращении с себе подобными был, смотря по обстоятельствам, то горд и высокомерен, то ползал и заискивал…. Перед большой собакой он обыкновенно вдруг опрокидывался на спину, и, когда та, насторожив уши и виляя хвостом, бесцеремонно приступала к его телесному осмотру, Круп трепетно вытягивал передние лапки и дотрагивался ими до суровой морды собрата-допросчика; и, как я замечал, эта немая мольба имела всегда хорошие результаты.
Но стоило только непрошеному гостю дать тягу ввиду подоспевшего подкрепления, как Круп с остервенением и один из первых впивался в его гачи…. Кроме всего этого, Круп был чрезвычайно нечистоплотен и имел обыкновение «отдавать долг природе», не стесняясь ни местом, ни временем…
Говорят, эта привычка его была поводом к тому, что Иван Иванович, раз только в жизни и собравшийся переменить свою холостую жизнь на жизнь семьянина, потерпел полнейшее «фиаско».
Предание гласит, что некая вдова И., женщина, во всех отношениях подходящая в супруги Ивану Ивановичу, уже совсем было согласилась и на брак, как вдруг в ту самую минуту, когда Иван Иванович красноречиво раскрывал перед нею всю прелесть своих чувств, проклятый Круп, не покидающий ни на минуту своего хозяина, подбежал и… прехладнокровно поднял ногу на платье этой симпатичной женщины.
Подобное либеральничанье и в такую торжественную минуту решило судьбу Ивана Ивановича: ему отказали, и он уже на всю жизнь остался холостым…. Но на Крупа, тем не менее, он не был сердит…
— Либерал… — говорил он, качая своею головой и вспоминая, быть может, счастье, которое погибло по вине Крупа… Но довольно об этом грустном эпизоде!.. Есть вещи, о которых тяжело говорить…
Незабываемое общение с яркой личностью
Познакомив вас, читатель-охотник, хоть в общих чертах с Иваном Ивановичем и его Крупом, я хочу описать свою первую встречу с этими оригиналами, а также и глупую, непростительно глупую шутку с моей стороны, которая навсегда лишила меня их знакомства…
Приступаю. С Иваном Ивановичем Кошкиным и его собакою или, вернее, с его собакою, а потом уже с ним, я познакомился очень просто, но оригинально… Одно время Иван Иванович повадился ходить на мои луга и выбивать дичь…
Тогда еще я не был с ним лично знаком, а потому в один прекрасный день я, услыхав выстрелы, направился с решительным видом к болоту…
Выстрелы были так часты, что я скоро стал приближаться к их источнику; как вдруг из-за какого-то куста на меня всплыл, буквально всплыл, какой-то пес, и по его движениям и энергии я вдруг инстинктивно почувствовал какие-то опасения, и во мне родилась уверенность: он получил страшную симпатию к моим икрам…
На гам, который поднял Круп (это был он), из-за куста выплыл Иван Иванович и, прикрикнув на собаку, спокойно спросил меня:
— С кем я имею честь говорить?
Заметьте, что я еще с ним вовсе и говорить-то не думал… Это меня немного смутило и, признаться, даже рассердило.
— Позвольте прежде спросить, милостивый государь, по какому праву Вы охотитесь на моих лугах и выбиваете дичь?! Это подло… и… — я задыхался от бешенства.
— А убирайтесь Вы к черту! — ответил он мне совершенно спокойно, причем употребил вдобавок одно очень некрасивое, нецензурное выражение. — Круп, пойдем!
И он ушел, не торопясь… А я скоро услышал новые выстрелы…
Вторичная встреча на моих же лугах послужила началом нашему знакомству… Мы скоро, несмотря на разницу лет, сошлись с ним… Я полюбил свободу его выражений, оригинальность его костюма, даже губу его, служившую для него импровизированной табакеркой…
— Я либерал, либерал до мозга костей, до корня волос! — говаривал он… (Увы! Последних было так мало, что местные остряки утверждали, что у Ивана Ивановича только «намек» на волосы и что голова его «голая, как колено»).
Удовольствия охоты
А поссорились мы с ним вот как…
— Пойдемте ко мне, — говорит однажды мне Иван Иванович, встретившись у судьи за завтраком. — Тетеревей масса! Мне обещались у одного знакомого указать место, где их тьма-тьмущая… Вот задали бы им таску… — и Иван Иванович повел на меня слегка прищуренным глазом. Против подобных доводов нельзя было устоять. Я сдался вполне; условились, когда съехаться, и поехали…
Весна была самая «тетеревиная» (либеральное выражение Ивана Ивановича, почему и помещаю его в кавычках), ток был прекрасный; тетерева, как одурелые, сами лезли под выстрелы… Одним словом, охота была прекрасная. Наохотившись вдоволь у Ивана Ивановича, мы, согласно уговору, поехали к его знакомому помещику…
Нас уже поджидали; прием был самый радушный. Разговор, конечно, свернул на охоту. Хозяин стал жаловаться, что хотя дичи и очень много, но охота плохая, так как в окрестностях у многих крестьян имеются ружья, а потому каждый из них и старается подстрелить тетерева:
— Поверите ли, когда начинается ток, то под каждым деревом можно натолкнуться на мужика…
Часы проходили в оживленной беседе… Не знаю, каким образом разговор свелся на то, как неприятно вставать ранним утром и идти на охоту. Я прихвастнул, что могу сам проснуться рано и что, напротив, утренний холодок для меня приятен. Иван Иванович подтрунивал надо мною и предлагал биться об заклад, что я сам не встану и тому подобное. Я отказался…
Хозяин распорядился насчет предстоящей охоты, и нам были построены две будки в разных местах; значит, можно было хорошо поохотиться, не мешая друг другу… Но попутала же нелегкая Ивана Ивановича пуститься на хитрости…
Коварный замысел
Наступила пора идти на ток. Вдруг Иван Иванович говорит мне этак потихоньку, что «не стоит идти на охоту ни сегодня вечером, ни завтра утром, а уж если начать «кампанию», так с завтрашнего вечера…». Хотя мне показался немного странным такой взгляд Ивана Ивановича, однако решился уважить его совет…
С вечера легли мы спать (для меня и для Ивана Ивановича была отведена для ночлега одна и та же комната). Лежу себе и все не могу заснуть, хоть ты тресни… Ворочался, ворочался я… ничего поделать нельзя… Слышу, впотьмах-то и Иван Иванович не спит, все кряхтит да ворочается тоже.
— Иван Иванович? — спрашиваю я. — Что, Вас блохи едят?
Молчит. «Во сне, — думаю, — ворочается». Подумал я только это и сейчас заснул. Только проснулся я ночью, кто его знает почему — блоха ли больно уязвила (а допекали-таки проклятые)…
Только слышу: Иван Иванович — «шарк» спичкою об стену… «Что это он делать хочет?» — думаю, а сам молчу. Вот зажег он свечку и встает, присматривается, сплю ли я? А я все лежу себе, не шелохнусь и даже для примера захрапел раз, другой…
— Александр! — слышу его голос.
Это значит, меня зовет. Молчу. Вот он, как только убедился, что я сплю, и давай одеваться. Встает, торопится. Стукнул было сапогом… да вдруг как щипнет себя за ухо! Значит, мол, не стучи другой раз! А сам все прислушивается, сплю ли я.
Гляжу я себе потихоньку на него и понять не могу, куда он, на ночь глядя, собирается? Вот вижу я, берет он и ружье со стены, снял паклю с пистонов; затем — шляпу на голову, свечку «пфу!» и пошел на цыпочках; только дверь скрипнула… и был таков…
«Измена! — думаю себе. — Хочет меня поднадуть Иван Иванович. Уж сострою же и я ему штуку!». Вскочил я в потемках, оделся, ружье прихватил на всякий случай, да из дому — «шасть!».
Вышел на крыльцо, слушаю… А Иван Иванович где-то недалеко шлепает по грязи: шаги-то ночью далеко слышны… Я за ним: смотрю, куда пойдет. А он в лес, да прямо к тому месту, где для него шалаш-то был построен. Смотрю, что дальше будет, не дохну…
«Уж постой, — думаю, — хотел надуть, так уж я тебе устрою штуку!». Хотел я просто выйти к нему навстречу, когда он возвращался бы домой, и сказать ему: «Здравствуйте! Думали меня провести, и не удалось…».
Рискованный розыгрыш
Вот забрался он в будку и залег. Подполз и я близко и тоже залег, только немного в стороне. Ждем: он ждет, и я жду… Стало уже светать… Гляжу я и вижу ясно, как лежит Иван Иванович, как его холод пробирает… Лежим мы себе оба… а на востоке уже заалело, и ветерок предрассветный потянул… Утро тихое такое…
Только слышу… «Пррр», — летит тетерев, да через мою голову, да прямо на лужайку… «Чу-фых! Чу-фых!» — и пошел, и пошел… Лежу я и жду, что дальше будет. Ждет и Иван Иванович…. «Чуфыхал», «чуфыхал» тетерев и «дочуфыхался»… Летит к нему другой… да прямо с налета… его да по физиономии, да грудью его, грудью… и пошла потеха!..
Гляжу я на Ивана Ивановича и все вижу. Поднимает это он ружье, а сам красный, красный… и руки дрожат, и нос посинел от холода… Смотрю это я, а в голову и заберись одна мысль… Как пришла она мне на ум, так меня хохот и пронимает… едва сдерживаюсь…
Целился Иван Иванович, целился, да как «полыснет», да и уложил старого петуха… Другой же — давай, Бог, ноги — и был таков…
Иван Иванович как вскочит, как бросится на токовище… А тут-то я ему и подстроил штуку… Как закричу я диким голосом:
— Ох, убил, убил!.. Ох, братцы, смерть пришла!.. Ох! Ох!..
Иван Иванович так и остолбенел. Волосы дыбом, шапка свалилась с головы, глаза дикие, сам, как смерть, бледный… стоит и понять ничего не может сразу. А я вдруг и умолк… Поверил Иван Иванович, что человека убил, да как пустится бежать…
Бежит недалеко от меня, бледный; полнота-то мешает бежать, ноги подкашиваются… сам задыхается… ужас такой на лице написан… Уж тут и я сам не на шутку струсил. Вижу, что шутка слишком далеко зашла… Выскочил это я из засады за ним и кричу:
— Иван Иванович!? Это я!.. Я только пошутить хотел!..
Куда тебе! Бежит к дому без шапки, всю свою «аттенцию», всю важность потерял…. «Ах, я разбойник! — взругнул я себя, вцепившись себе со злости в волосы. — Что я сделал?! Что я сделал?!.».
А тут еще на ум пришли разные мысли, одна другой мрачнее: «Надворный советник!.. И кавалер… Человек почтенный… Всеми уважаемый!… Ах, срам, срам!.. Еще захворает, чего доброго!?.. Такому-то человеку, и такое волнение!.. Вот тебе и шутки! Дошутился!». Бегу это я к дому, а навстречу хозяин, батраки, кто в чем одет.
— Иван Иванович человека убил! — кричат мне еще издали… — На охоте.
Смертельная обида
Остановил я их и рассказал всю историю. Так и начал с самого «начала»: что Иван Иванович хотел подшутить надо мной, сделать мне сюрприз, как я… Ну, одним словом, я рассказал все… Хозяин на меня рассердился; вернулись домой.
Я первым делом к Ивану Ивановичу. Вхожу в комнату: лежит он ничком на диване, как был в своих узких штанах и сюртуке неопределенного цвета, впадающего в болотные сапоги грязные.
— Иван Иванович! Голубчик! Простите! — начинаю умолять…
А сам обнимаю его. И слушать ничего не хочет:
— Я, — говорит, — человека убил!.. Долиберальничал!..
Насилу выслушал… И, Боже ж мой! Когда понял он все, когда почувствовал, как унижено его самолюбие, затрясся весь и только прохрипел:
— Лошадей!!!
Напрасно упрашивали его…
— Лошадей! — взревел он, как бык на бойне.
Иван Иванович, надворный советник! И вдруг… так кричит! Глазам своим не верю. Умоляю простить, не сердиться… Говорю, что ведь он сам хотел подшутить, и тому подобное все в том же роде… Куда тебе?.. И слушать не хочет: «Лошадей!» да «Лошадей!».
— А где шапка моя? — спрашивает это, значит, уже тоном ниже.
Сбегали за шапкой времен Людовика XIV, а заодно и тетерева убитого притащили. Подали лошадей. Иван Иванович простился с хозяином… Я тоже вышел на крыльцо… Думало, подвезет, так по дороге как-нибудь разговоримся… Не тут-то было! Тетерева взял к себе в телегу, а меня… не взял. Ямщик было для меня и лошадей попридержал…
— Пошел! — взревел Иван Иванович да мужика по шее, а мужик — по лошадям…
Никогда, признаться сказать, ни до того времени, ни после того не видал я таким Иван Ивановича.
Конфликт «шишек»
Ходил я потом лично объясняться к нему — не принял. Так лакей и сказал, что «Вас не велено принимать-с!». Сраму-то, сраму сколько! Все же я — титулярный советник! Тоже своего рода «шишка!».
Писал я ему и письма: «Как охотник обращаюсь к Вам, добрейший Иван Иванович…» — и все в том же роде… Но долго мне он не отвечал… Наконец, дождался я ответа. Хватаю я дрожащими руками письмо, ломаю печать… читаю: «…Вы, милостивый государь, не охотник, а шалопай, мальчишка (это я-то! титулярный советник!..). Вы надругались над священною охотою… Вы недостойны называться охотником…».
Далее: «Я узнал, что Вы имеете тайную связь с…» (тут он назвал имя одной женщины…). Ну скажите, господа: какое отношение имеет охота к моим семейным тайнам?!.
Вот вам и весь рассказ, собратья-охотники, о том, как прервались одна из лучших страниц моих охотничьих воспоминаний — ссорой с Иваном Ивановичем Кошкиным.
Он еще жив и, как мне сообщал аптекарь, намерен в этом году произвести формальную бойню в окрестностях своего имения. Тот же аптекарь рассказывал мне, что с Иваном Ивановичем недавно случилась неприятность: крестьяне, луга которых он топтал, решились покончить с этим — подали к мировому (судье. — Прим. редакции).
Все тот же аптекарь рассказывал, что Иван Иванович принес однажды с охоты зайца с веревкой на шее… Но можно ли верить аптекарю?!.
Круп тоже жив, и я его часто встречаю, бродя по своим болотам. Он обыкновенно бегает один и один охотится. Вся его охота состоит в том, что он делает стойку на дичь, затем спугивает ее и гонится за ней, пока хватит сил; затем принимается за другую птицу.
Иногда он приводит на охоту с собою еще двух собак Ивана Ивановича: бульдога и дворняжку. Ученье производится так: Круп становится на стойке, а приятели, уже кое-что смекнувшие, наблюдают за направлением его морды; затем они бросаются наперерез, Круп тоже — и начинается бешеная скачка по болоту…
Что думают Круп и его спутники и на что надеются — не знаю, но думаю, что они, по теории незабвенного Ивана Ивановича, стремятся к чему-нибудь очень либеральному.
А. Ж-ч, 1881 г.