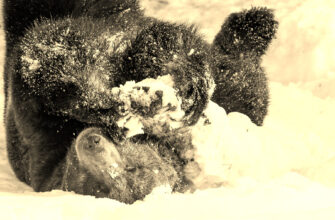Слишком обширных глухариных токов по количеству особей я не находил в эту весну по горам вблизи станицы Алтайской. Указывали, положим, мне на один ток, на мысу, правее Бай-Бердинского перевала, говоря, что там что-то около полусотни глухарей поет.
Но я, твердо помня хорошую русскую пословицу, что «от добра — добра не ищут» и, во всяком случае, не особенно доверяя этой полусотне чуть не на десятине поющих глухарей, — не ехал на этот чудовищный ток, решивши совершенно основательно, что с меня и одного-двух глухарей, убиваемых мною чуть не в каждое утро, вполне достаточно.
Кстати, не могу здесь не рассказать одного довольно комичного эпизода, произошедшего со мной после подскока на глухарином току. Объявил мне как-то один из алтайских казаков, что между р. Солонечной и Ушкунгоем, на одной из лиственничных грив, он недавно утром согнал что-то очень много глухарей; ясно, что он на ток наткнулся. Посулил я казаку всесильный рубль-целковый за то, чтобы он проводил меня на это место. Приехали мы туда еще засветло. Посмотрел я — место для тока подходящее. Вечером выслушал порядочно глухариных взлетов, а наутро, сопровождаемый своим проводником, велевши ему подвигаться за мной шагах в 50 сзади, начал в песню подходить к токующим глухарям. Одного спустил я со старой лиственницы, другого и, пока мой казак подбирал их, пошел в песню к третьему. Место тока довольно чистое, очень удобное для подхода. Как и во всяком лиственничном горном лесу, деревья отстоят довольно далеко одно от другого, и моему проводнику отлично видно, даже издали, каждое мое движение, каждый шаг мой вперед под звуки любовной глухариной песни.
Взял я в это утро на току трех глухарей и вернулся домой, а наутро целая депутация, состоящая из пяти человек казаков-охотников между делом явилась ко мне в квартиру и начала упрашивать меня поучить их подходу, предлагая даже за эту науку вознаграждение. Дело в том, что здешний промышленник не знает и никогда даже не слыхал о способе подхода к токующему глухарю. У них эта охота производится самым примитивным образом: выслушивает какой-либо ток промышленник, устроит себе на нем шалашку из веток хвои, а перед утром и засядет. Ну, понятно, что вся его добыча в утро на току ограничивается одним, много — двумя глухарями, усевшимися от него на выстрел, сделавши который не всегда во время песни, он обыкновенно и разгоняет всех, оставшихся еще на току глухарей.
Появление передо мной этой депутации объяснилось очень просто. Мне потом рассказали, что моему проводнику эти депутаты даже выпоили в кабаке три бутылки водки только за то, что он рассказал им, как я стреляю глухарей на току.
— Идет это, братцы мои, он к глухарю, как есть на виду весь, хоть бы тебе как-никак скрадывал; а то — во тебе глухарь сидит, чиркает, а во тебе и он с дробовиком, прямо к нему идет… Подойдет близехонько, да как ахнет, ну, и смерть глухарю тут!.. Не иначе, как слово какое он знает!.. — рассказывал товарищам мой проводник.
Несмотря на все упрашивания и обещания всевозможных благ, депутация ушла от меня ни с чем: не в моих правилах учить промышленников. И так ежегодно истребляют они немало птицы и зверя на Алтае, не разбирая времени, а если б я научил их подходу, то, смею думать, что в скором времени ни одного глухариного тока не осталось бы вблизи.
Как я узнал впоследствии, несколько человек промышленников все-таки отправлялись на ток, захвативши с собой моего бывшего проводника, который должен был им на деле показать, как я подхожу к поющему глухарю. Понятно, что окончилось это ученье, когда весь ток был разогнан и не убит ни один глухарь, после чего промышленники окончательно решили, что я слово знаю, а потому и бью глухарей с подхода.
Капризная тяга
Опять я на любимой моей горной речонке — Солонечной. Поднимаюсь верхом по ее живописному, полному дикой прелести правому берегу. Мне надоела тяга на одном и том же месте, и я, вдвоем с Томиловым, жалея отсутствующего моего неизменного спутника Щербакова, отправился разыскивать новую на Солонечной.
Дикие, привольные места!.. Стеной высятся неприступные скалы, среди которых там и здесь вдаются, точно сползающие вниз лесистые мысы; бурлит Солонечная, прыгая с камня на камень; точно змея, серебряной чешуей покрытая, мчится она с вершин горных, то извиваясь самыми невероятными, причудливыми поворотами, то выпрямляясь и, как проведенная по нитке, сверкает на солнце, рассыпаясь на всем видном своем течении у камней в бесчисленные мириады искрящихся всевозможными огнями бриллиантов водных брызг и неудержимо стремясь вниз. Из ельников густых прибрежных, иногда покрывая даже гул горной реки, прорываясь сквозь него, нет-нет да и доносится мелодичное пересвистыванье рябчиков; пронзительно вскрикивая, проносятся над головой кедровки; да там снизу, из согры, раскинувшейся по Сарымсаку, едва слышно доносится тоскливая нота журавлиного курлыканья…
— Хорошо, ваше скородие! — вырывается у старого промышленника Томилина.
— Хорошо! — соглашаюсь я, полной грудью вдыхая чистый горный воздух и точно пьянея от его аромата смолистого, еще более ощутимого в эту весеннюю пору.
Уже недалеко до намеченного места, куда ведет меня Томилов. Мы переезжаем Солонечную, обдающую наших коней брызгами и пеной своих бурлящих вод, через густую чащу ельника едва-едва пробираемся, подымаемся немного вправо в гору и точно выныриваем сразу из лиственничного леса на небольшую поляну, на одной из сторон которой раскинулось небольшое озерко, образовавшееся из ключа, сбегающего с гор…
— Тут и стану нашему быть! — говорит Томилов, останавливая коня и спешиваясь.
Я делаю то же и быстро спрыгиваю со своего Серого.
Вечером Томилов отправился на горную гриву за озерко выслушивать глухариные вылеты; я же спустился немного ниже, рассчитывая наткнуться где-нибудь на тягу. Но в этот вечер мне не повезло: я версты четыре ушел от нашего стана и нигде не слышал тянущего вальдшнепа.
Тяги вообще, как я заметил в эту весну, очень капризные на Алтае. Я уже не говорю про погоду — погода везде и всегда, в каком бы месте ни происходила тяга, имеет на нее то хорошее, то худое влияние. Но что представляет особый интерес к характеристике вальдшнепиных тяг на Алтае, так это выбор места для этой цели. Более неподходящих мест для тяги, более неожиданных, если можно так сказать, я не видывал нигде в другом месте. Наткнешься, бывало, на местечко, шатаясь по горам; кажется, и желать лучшего места для тяги невозможно, по всем данным обязательно должна быть здесь тяга… Ну и потеряешь вечер, пера вальдшнепиного не видевши и даже издали не слыша его характерного хорканья и цыканья. А иной раз остановишься, где попало, в горах на ночевку, захваченный наступающим вечером и, глядишь, на такую тягу дивную наткнешься, что успевай заряжать только. Надо сказать только одно, что в каком бы месте гор ни происходила тяга, ни один вальдшнеп никогда не тянет ни вниз, ни в гору, а всегда летит над склонами гор.
Уже совсем стемнело, насколько может стемнеть в горах в весеннюю ночь, как я вернулся к нашему стану. Томилов, как видно, давно уже пришел: у него уже вскипел чай и варился ужин.
— Ну, как? — спросил я его.
— Плохо, ваше скородие: три взлета за весь вечер только и слышал… И куда это только вся подевалась? Года с два тому назад — ну и глухаря же здесь было — беда!..
Неудачное утро
Более неудачного утра на глухарином току, как следующее, у меня еще не было ни разу на Алтае. Было всего с десяток глухарей. Но как я ни пробовал, как ни ухитрялся — положительно не мог подойти ни к одному. Чем они напуганы так сильно и что может быть причиной такого явления в этой глуши, я положительно не понимаю. Много лет охочусь я на глухариных токах, люблю эту охоту не потому, чтобы глухарь представлял из себя редкую какую-либо добычу, а просто благодаря обстановке этой охоты, раннему весеннему утру, да некоторой доли искусства, требуемого от охотника для удачного подхода к поющей птице… Благодаря многолетней практике я дошел почти до совершенства в деле подхода к глухарю в песню, подходил даже к уже несколько раз перегнанным и бил их — и тем более для меня является положительно непонятной их необычная робость на току в это утро. Даже песня у них не обычная азартная, а какая-то с перерывами и постоянными остановками на половине песни. Представьте себе, подойдешь даже к одному из таких поющих глухарей, ну, думаешь, этот-то не уйдет; еще шага два-три в сторону сделать — и стрелять можно будет… Ан не тут-то было: еще и шагать не начинаешь, ожидая новой песни, как уже глухарь снимается с лиственницы и летит в гору — просто, точно видит тебя он еще издали…
Подшумевши, или вернее сказать, согнавши, четырех до безобразия напуганных чем-то глухарей, я дошел до одного из краев лесного мыса, крутыми уступами каменистыми спускающегося вниз к маленькому, весело журчащему ключику, остановился и присел на камень. Возвращаться назад и снова вспугивать так вяло поющих на этом току глухарей не имело ровно никакого смысла. Я закурил папиросу, наслаждаясь этим чудесным ранним весенним утром в горном лесу.
Солнце еще не взошло, только там далеко, на востоке, вырываясь из-за гор высоких золотом брызжущего света, подымаясь все выше и выше, плывут его яркие лучи… Тихо в горах. День обещает быть таким ясным, теплым; ни облачка на все более и более светлеющем небе. Только все там же, на дальнем востоке, вся залитая яркими лучами невидимого пока солнца, медленно плывет, чуть не касаясь вершин горных, довольно длинная, узкая тучка… Только-только что начинает просыпаться певчее население леса: пронзительно вскрикнул певчий дрозд, другой ответил ему таким же криком сбоку, и полились нежные весенние песни, все усиливаясь и усиливаясь, все дополняясь и дополняясь новыми голосами, пристающими к этому дивному хору… Далеко снизу, с долины, как и вчера вечером, донеслись ликующие клики проснувшихся журавлей… Пахнет хвоей… Так легко дышится…
Я здесь один; здесь все кругом приветно:
Леса и тишь, грядущая весна —
Живит меня и сходит незаметно
На душу мне святая тишина…
Что-то треснуло выше меня. Я взглянул в ту сторону и увидел табунчик, штук в восемь, коз, выскочивших на опушку мыса. Испуганно метнулись они в сторону и, как одна, кинулись затем вниз к ключику… Их, наверное, Томилов вспугнул, шатаясь выше меня и вспугивая не подпускающих его на выстрел глухарей. Через несколько минут, когда козы уже к ключику подбегали, стукнул винтовочный выстрел. Козы еще ускорили свой бег и скрылись в гущине ельника. «Неужто это он по козам? — думаю я. — Нет, быть того не может: ведь они, наверное, ближе были к нему на выстрел, нежели теперь. Да и не станет он весной по козам стрелять!..»
Я поднялся с камня и начал карабкаться вверх. Оказалось, Томилов убил росомаху, шляющуюся по глухариному току. Уж не она же напугала так глухарей! Что-то совсем непонятное для меня делается на этом току…
Излюбленное место
Я не забываю Ушкунгоя и той небольшой полянки у ключика на нем, где я впервые на Алтае услышал тянувшего вальдшнепа, — и чуть не через несколько дней езжу туда на тягу.
Я знаю, что мне еще не долго гостить на Алтае; знаю, что я сам писал, куда следует, о скорейшем переводе меня на службу в город Семипалатинск; знаю, наконец, что я с каждой приходящей почтой могу ожидать этой бумаги, сообщающей мне, что мой перевод уже состоялся; а потому с упоением предаюсь охоте в эти последние дни моего пребывания на Алтае.
Как-то незаметно, чересчур уж быстро для меня промелькнул апрель и настал май месяц, с яркой, молодой зеленью деревьев и трав, с цветами, пышно распустившимися по горным склонам, со звонкими трелями соловьиными и со всем светом и блеском, присущим этому последнему весеннему месяцу.
С каждым новым днем все слабее и слабее делаются глухариные тока; вот уже и почти совсем прекратились они: убрались старые самцы в крепи, приготавливаясь к линьке, капалухи уже нанесли достаточно яиц и сидят на гнездах, не появляясь более в районах токов; только одни молодые петухи, не смогшие и не умевшие благодаря старым удовлетворить своей страсти, вызванной весной, поют местами еще более жарко, нежели раньше, не опасаясь больше своих старых соперников и выливая в песню нежную порыв так долго сдерживаемой бурной страсти. Слабеют токи глухариные, но зато тяги все больше и больше раздаются, и днями, сплошь и рядом, наскакиваешь на такую тягу, все в том же Ушкунгое, что только ружье успевай заряжать.
В самый разгар тяги получил я ожидаемую бумагу, извещавшую о моем перемещении на службу в г. Семипалатинск. Я велел укладываться и, несмотря на совершенно справедливое неудовольствие своей благоверной, заседлал Серого, уже проданного мною старому его хозяину за ту же цену, за какую я купил его, — и в последний раз, в одиночестве, отправился в Ушкунгой на тягу.
Еще более нарядной, еще более радостной, оживленной, да такой неудержимо-шумливой встречает меня в этот день горная природа: так все ярко-зелено вокруг; так звонко, не смолкая ни на минуту, несутся птичьи песни и клики ликующие…
Медленно карабкается в гору мой любимец — Серый по узенькой тропочке. Я еду очень грустный, задумчивый… Мне жаль покидать эти места дивные, жаль расставаться с тою жизнью привольной, полной свободы, к которой я так привык за время моего житья здесь, на Алтае, и меня не радует, как всегда, не захватывает еще пока всецело в свою власть окружающая весенняя картина…
Все круче и круче подъем; все стремительней и старательней шагает Серко. Я думаю, что он в последний раз везет меня на своей могучей спине, и мне, стыдно сознаться, чуть не до слез жалко расстаться с моим испытанным конем, так много возившим меня по Алтаю. Я бы увел его с собой, пожалуй, но беда в том, что я ему только одно зло причинил бы этим: часто горная лошадь, привыкшая к горным травам, так или иначе должна захворать на степных кормах.
Уже недалеко до поляны, излюбленного мною места тяги. Я сквозь последние окружающие ее кусты пробираюсь и сейчас должен выехать на чистое место к ключику. Чуть не из-под ног у моего Серого вырвалась копалуха и, тревожно квочкая, понеслась в гору.
Не узнаешь моей полянки! Но перемена, совершившаяся с ней, превзошла все мои ожидания: целый ковер цветочный пестрит под ногами, небольшие березки, убранные молодой листвой, точно надевшие подвенечное платье, блестят на солнце белизной своих стволов; еще громче, еще радостней, оживленней несутся песни птичьи, сквозь которые там и здесь властно прорываются звонкие соловьиные трели…
И этот рай земной я должен покинуть совершенно добровольно!..
Еще рано. Я сижу у огонька, на котором греется мой охотничий чайник, и думаю, думаю напряженно, усиленно… Думаю о том, что будет, если я завтра вместо выезда из станицы Алтайской пошлю к начальству срочную телеграмму: «Ваше превосходительство! Так и так: душевно благодарен за назначение, но…» Вот в этом-то «но», проклятом, вся и загвоздка!.. Что тут напишешь?.. Не написать же мне, что здесь тяги настолько хороши, что я не ожидал никак!.. А если написать, что ввиду выздоровления дочери просил бы оставить меня на прежней должности… Но это будет неправда, потому что дочь все-таки придется отправить с женой в Москву лечиться. Мало того, ну как я теперь буду проситься, чтобы меня оставили здесь, когда я сам усиленно просил о скорейшем перемещении меня?.. Нет, хочешь не хочешь, а приходится ехать и переселяться из этой благодати, из этого рая земного в душный, пыльный, выросший на сыпучем песке, такой несимпатичный для меня полуазиатский город, как Семипалатинск…
Тут ничего не поделаешь: сегодня я прощусь с Алтаем, прощусь с чудной тягой, в последний раз преклонюсь перед этой природой дивной.
Да, только бы изредка утихало все кругом; только бы изредка так, как сейчас, я мог всем своим существом окунуться в эту захватывающую тишь роскошной, в полном весеннем расцвете, природы и наслаждаться, наслаждаться ею до боли сладкой, так, как я наслаждаюсь сейчас!..
Прощание с Алтаем
Простился я с Алтаем в этот вечер, простился и он со мной, подаривши мне на прощанье такую тягу, какую никогда в жизни я не видывал раньше. Как будто нарочно в эту последнюю мою тягу на Алтае кто-то властно согнал в этот район вальдшнепов со всех окрестностей. Я ружье едва успеваю заряжать и стреляю не переставая направо и налево. Я патронташ снял с себя и положил раскрытым около, чтобы иметь возможность поскорей переснаряжать ружье. Сбоку меня, на траве, валяется целая куча стреляных гильз. Уже и снаряженных в патронташе остается очень немного, а я стреляю и стреляю усиленно, успевая только выпускать заряд по второму, третьему из проносящихся с громким хорканьем мимо меня вальдшнепов…
Чудные тяги доводилось мне видеть раньше и стрелять на них, например, в Новгородской губернии и раньше, в незабвенные времена моей молодости, в чудных местах Харьковской губернии, но такой тяги, как была в этот вечер здесь, на Алтае, повторяю, я никогда не видывал.
Еще было совершенно светло, в самом разгаре была тяга, когда я, расстрелявши 36 имеемых в моем патронташе патронов и взявши 17 штук вальдшнепов, принужден был прекратить охоту и приняться за чай, любуясь все разгорающейся и разгорающейся тягой.
Догорает вечер. Густые, темные тени давно уже разлеглись по ущельям; уже и подножия деревьев темнеют, заметно посвежело в воздухе, холодный ветерок вдруг пахнул из ближайшей щели. Уже кое-где и звезды яркие зажглись, только едва-едва заметная узенькая светлая полоска заката еще догорает на западе, близится весенняя ночь… А вальдшнепы все тянут и тянут не переставая — точно с каждой минутой приближения к ночи все усиливается и усиливается тяга: по три, по четыре вальдшнепа то и дело с цыканьем и хорканьем проносятся через поляну, поспевая успеть насладиться всеми восторгами взаимной любви. Я с захватывающим восторгом любуюсь картиной этого дивного весеннего вечера, и мне так больно, так тяжело расставаться со всей этой прелестью и никогда, быть может, не увидеть ее больше!..
На другой день, провожаемый добрыми пожеланиями сослуживцев и знакомых, я после обеда выехал из станицы Алтайской.
Быстро катится экипаж по гладкой каменистой дороге. Без умолку щебечет моя маленькая дочурка, расспрашивая о чем-то мать. А я сижу молча, с любовью и грустью глядя влево на высокий кряж Алтая и мысленно прощаясь с ним. Вот и Ушкунгой, место моей вчерашней тяги, минули мы; вот и дивно-красивая Солонечная вырисовалась так отчетливо своими снежными, неприступными вершинами; быстро промелькнула она так. Я даже назад обернулся и во все глаза гляжу на нее, стараясь надолго запечатлеть в памяти эту чудесную картину. Вот и в лиственничный лес, спускающийся вниз с гор на дорогу, въехали мы. Еще раз в просвете деревьев мелькнула передо мной Солонечная и скрылась из глаз.
Прощай, Алтай! Спасибо тебе за все те радости и чистые светлые минуты, которые ты дал мне среди своей природы дивной… Только одним покоем да счастьем дарил ты меня за все это время… Отдыхал я душой среди гор твоих подоблачных, забывал все горе и неудачи, все оскорбления несправедливые забывал в глухих недрах твоих… Исцелил ты надолго мои раны, полученные от житейской борьбы, так как же я не скажу тебе от души великое спасибо, как же иначе, как не с любовью я буду всегда вспоминать о тебе?!..
Прощай, Алтай!..
Николай Яблонский, 1906 год