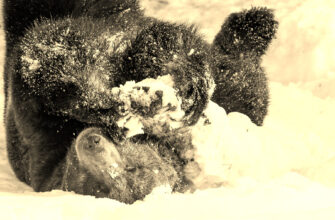Чуть брезжил рассвет ноябрьского дня, когда трое саней, нагруженных охотниками и собаками, съезжали с широкого двора усадьбы Губерта Станиславича С—го. Впереди, в первых санях, устроились четверо лесников с длиннейшими одноствольными «кочергами», во вторых — выжлятник Губерта Станиславича, Кароль, с тремя смычками гончих и еще одним охотником, и, наконец, в третьих — сам хозяин и нас три брата — я младший, накануне только нагрянувшие без зова к С—му на охоту.
Экспромтом составившаяся охота не могла, конечно, быть многообещающей. Хотя созванные вчера же вечером на совет полесовщики и допускали возможность встретить коз, упоминался даже и dzik (кабан. — Прим. редакции), который-де, если его не всполошили, должен быть в такой-то «кнее» (лесном острове или просто на участке, где намечается охота. — Прим. редакции); и хоть все это были одни предположения, но так или иначе охота не могла не составиться, и мы, компанией в десять человек, ни свет ни заря ехали уже в ту «кнею», где была надежда на коз, а отчасти и на кабана, верст за десять от усадьбы.
Погода стояла тихая, пасмурная; мороз — градуса два; выпавший накануне снег ровным слоем покрывал землю не более как на четверть (около 18 сантиметров. — Прим. редакции). В разговорах, шутках и безобидных остротах, главною мишенью которых был я в качестве младшего по летам и по охотничьей опытности, незаметно промелькнули десять верст (10,6 километра. — Прим. редакции) по хорошей лесной дороге с двумя-тремя заброшенными в глуши хуторами, пользующимися нелестной репутацией притонов конокрадства.
Очаровательный для уха охотника концерт
Но вот передние сани свернули с дороги и, проехавши еще с полверсты целиком, остановились. Подъехали и прочие, и составилось последнее совещание относительно плана охоты. Наконец, вопрос, откуда «подкладывать» собак и где становиться охотникам, был решен окончательно.
— Nu, biez psuw, Karolu! — последовало распоряжение Губерта Станиславича.
Скоро Кароль в сопровождении трех смычков гончих и одного из лесников скрылся за поворотом лесной тропинки. Оставшиеся охотники тоже стали разбредаться по местам. Я с С—им отправились на левый фланг проектируемой цепи.
— Губерт Станиславич! Я здесь думаю стать, — обратился я к С—му, указывая на приглянувшееся мне местечко в неширокой, саженей в 20 (около 42 метров. — Прим. редакции), чистой, с пологими скатами лощинке.
С—ий остановился, взглянул направо, взглянул налево…
— Эге, да вы знаете, где раки зимуют! Становитесь!.. Место хорошее; и я тут по соседству с вами стану, — согласился он и, отойдя от меня шагов 200, тоже остановился в виду у меня.
Зимняя тишина векового леса нарушалась лишь теми немногими голосами, которые не мешают охотнику слышать малейший интересующий его звук.
Пара голубых синиц, перекликаясь стеклянными колокольчиками, цеплялась в самых невозможных положениях за ветки того самого дуба, у которого я стоял; пестрый дятел вдруг прилип к ближней осине, подолбил ее носом, все забираясь спиралью выше по стволу, и, вероятно, не найдя искомого, убрался восвояси; в глубине леса прострекотала сойка, мелькнув на перелете над самой землей, крохотная лесная мышь беззвучно прошмыгнула от корня одного дерева к другому, оставив на снегу микроскопические парные следочки…
Но вот гулко пронесся по лесу зычный вопль Кароля, «подкладывавшего» собак… Громче и громче, шире и шире разносились дикие, неистовые возгласы… Несколько соек в испуге врассыпную пролетели над верхушками столетних дубов.
Звонкое, визгливое сопрано выжловки на мгновение покрыло собой все остальные голоса — и смолкло… Через несколько секунд вожделенный звук повторился с новою силой и, поддержанный сначала одним, потом остальными голосами стаи, перешел в тот очаровательный для уха охотника концерт, который заставляет его забыть «все, все земное!..».
Добрая двустволка Мортимера в руках наготове. Отчетливо прощелкали курки у соседа.
Я стоял, прижавшись к толстому дубу, на скате, противоположном, конечно, тому, откуда брошены гончие; шагов на 200-300 вперед ни один зверь не мог пройти незамеченным.
Ревмя ревела добрая стая; с каждой секундой становилось очевиднее, что зверь ведет на меня…
Предвкушение триумфа и…
Под влиянием чувства охотничьей жадности, с одной стороны, и некоторого тщеславия — с другой, я в последней раз скосил глаза на соседа: один только ружейный ствол неподвижно торчал из-за толстого дерева; тоже начеку!..
С одной стороны, опасение, чтобы счастливый момент не выпал на долю другого; с другой — хотелось, чтобы был свидетель могущего сейчас произойти торжества и эффектнейшего мгновения на охоте, мгновения, в котором самому предстояло быть главным действующим лицом.
Глаза пристально всматриваются в глубь леса… Что-то как будто шевельнулось вдали… нет, померещилось, верно… А тут еще несносная слеза от напряженного зрения застилает глаза!.. Да вот опять мелькнуло что-то… Зверь! Теперь несомненно!.. Остановился… очевидно, наслушивает собак…
Крепче сжали руки ружье; дрожь пробежала с затылка до пят, захватило дыхание.
Легкими неторопливыми прыжками, а где и грациозной рысцой несся прямо на меня крупный, пепельно-серый, уже безрогий козел… Все внимание его, по-видимому, обращено назад, на потревоживших его гончих… Вот он уже шагах в ста…
«С левого прежде», — мелькнула в голове последняя мысль о ненадежности правого курка, имевшего чрезвычайно тугой спуск и бывшего уже причиной нескольких скандальных промахов, и я стал подносить ружье к плечу.
Шагах в 25 от меня в пол-оборота легкой рысью пересекал козел чистую лощину. Ждать больше нечего, выдержал достаточно, кажется. Грянул выстрел, но, увы! Выстрел из правого… и совершился постыднейший пудель!..
…горечь неудачи
Точно гуттаперчевый, прыснул со всех четырех ног козел, только комья снегу взвились кверху, как стрела, пролетел мимо меня и в несколько прыжков был уже почти вне выстрела. Вот он в последней раз сверкнул между деревьями белым зеркальцем, и в тот же момент я сделал последнюю попытку поправить скандальное дело — пустил вдогонку заряд картечи из левого ствола.
Куды тут!.. Еще отчаяннее «заварили» подвалившие гончие, подбодренные выстрелами и видом охотника, и с плачем и визгом скрылись вслед за козлом.
Готовый провалиться сквозь землю, поднял я несмелые взоры на свидетеля моего «торжества». Вот он спустил курки, резким, нетерпеливым движением вскинул ружье за плечи и направился ко мне.
— Эххх! Zepsutes pan polowanie! («Испортили Вы охоту». — Прим. автора) — процедил он сквозь сжатые зубы и, не глядя на меня, пошел мимо. С видом не триумфатора, а провинившейся с поджатым хвостом собаки последовал и я за ним.
— Ну, когда они теперь вернутся! Ведь он их к Летичеву (охота происходила в Литинском уезде, Литинский и Летичевский — смежные уезды Подольской губернии. — Прим. автора) уведет! — рассуждал сам с собою Губерт Станиславич, а я, не смея даже идти рядом, шел сзади и казнился.
Отойдя уже с полверсты от места моего посрамления, нам пришлось пересекать свежий след стрелянного мною козла, С-кий вдруг остановился и схватил меня за руку.
— Смотрите! Кровь!..
С усердием доброй гончей бросился я в чащу по кровавому следу козла. С каждым шагом крови было больше и больше; видно было, что несколько раз раненный зверь останавливался, обозначая каждый раз место остановки целой лужей крови, на ходу брызги крови ложились по обе стороны следа.
Наша взяла!
Долго ли, коротко ли шел я по следу, не обращая внимания на пни и колоды и на хлеставшие по лицу ветви, только, наконец, должен был остановиться, чтобы перевести дух и вытереть платком градом катившийся с лица пот.
Тишина мертвая; собак не слышно, да и не знаю, когда я их потерял со слуха; только неугомонный дятел настойчиво долбит где-то в стороне сухое дерево.
— Бывай-ту, быва-ай! — раздалось невдалеке, и вслед затем победный голос Губерта Станиславича: — Го-го-го-го!..
— Ура! Наша взяла! — вероятно, вслух подумал я и, оставив след, бросился напрямик на голос.
Через несколько минут поспешной ходьбы заредела впереди опушка, а затем я выбрался на большую поляну, на противоположной стороне которой уже были в сборе все охотники и собаки; тут же стояла пара лошадей, запряженных в крестьянские сани, а какой-то пейзан в свитке и мерлушечьей шапке (крестьянин в распашной верхней одежде из домотканого сукна и в шапке из шерсти ягненка. — Прим. редакции), стоя перед группой охотников, о чем-то повествовал им, сильно жестикулируя руками.
— Pszepraszam i winszuje! («Извиняюсь и поздравляю». — Прим. автора) — приветливо встретил меня Губерт Станиславич, протягивая обе руки и подводя меня к трофею: на узкой лесной дороге лежал огромный безрогий козел с неподвижно открытыми потускневшими глазами и прикушенным кончиком окровавленного языка; одна из гончих, просунув голову между обступивших добычу охотников, трусливо лизала окровавленные задние ноги козла.
— Ну, брат!.. И стрелок же ты! — съехидничал мой средний братец, не чуждый одного из семи смертных грехов, зависти, успевший уже узнать от С-го скандальные подробности моих выстрелов.
— Да, замечательно счастливый выстрел! — притворился я не почувствовавшим шпильки. — Чуть не на сто шагов — в такое маленькое белое пятнышко!..
…Пейзану, который оказался личностью известною одному из лесников, предстояло ехать мимо той лесной сторожки, где дожидались нас лошади, а потому козел и был отправлен с ним для сдачи кучерам.
Сами мы, выпив за «упокой убитого», продолжали охоту, которая, впрочем, окончилась для всех неудачно; только мне в довершение торжества удалось убить еще зайца, причем опять не обошлось без пакости со стороны правого замка.
М. Ф. Д., г. Москва, январь 1882 года